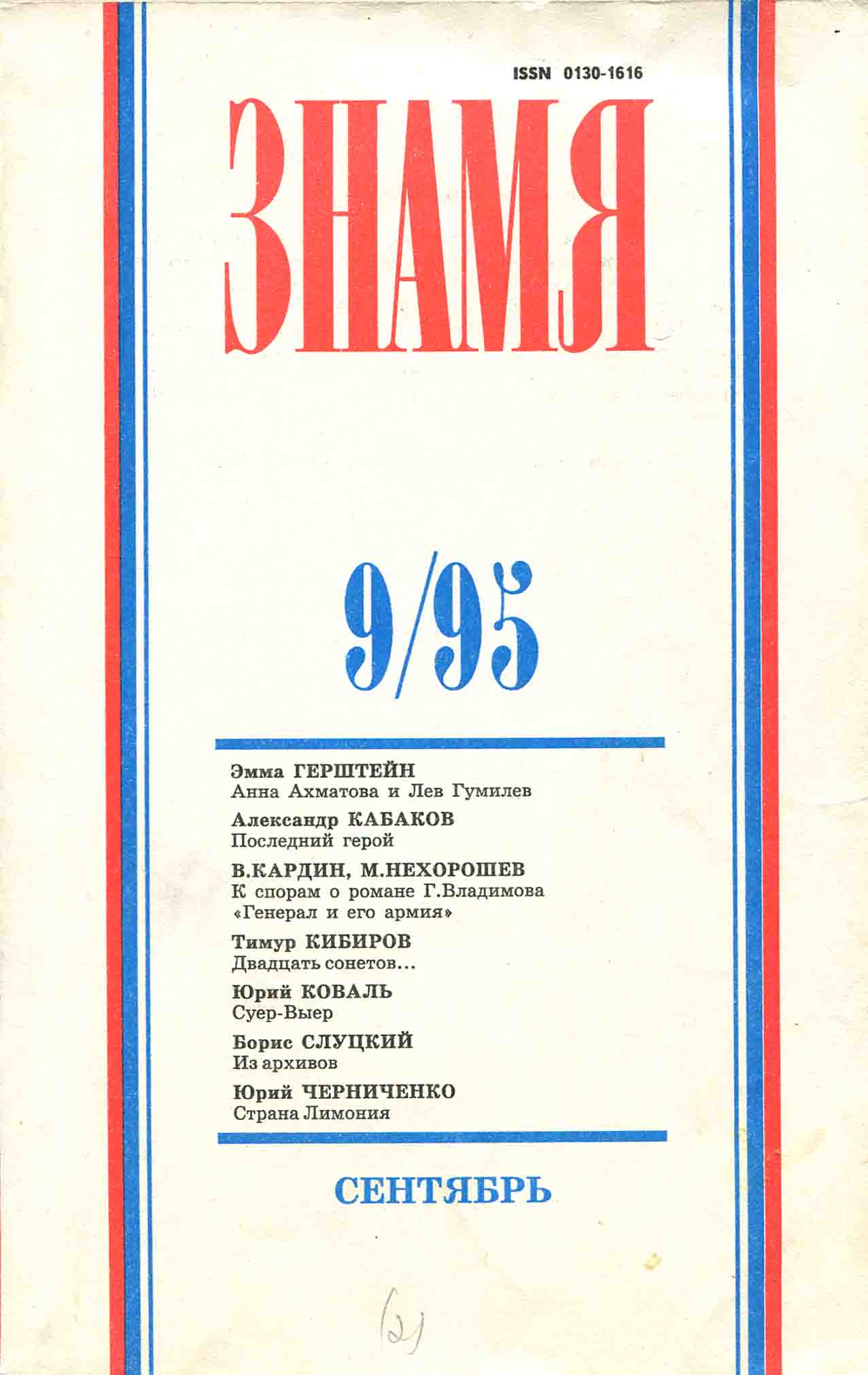«Суер-Выер»: журнальные варианты
«Знамя». 1995. №9. С. 56—121. (PDF)
{Номера страниц указаны синим в фигурных скобках.}
Юрий Коваль
СУЕР-ВЫЕР
ПЕРГАМЕНТ
Этот номер журнала Юрий Коваль не успел подержать в руках. А он так ждал... До последнего дня Юрий Иосифович работал, вносил правку в верстку, радовался каждому удачно найденному слову и тому, что его новая вещь вот-вот увидит свет. Судьба распорядилась по-своему. Редакция «Знамени» глубоко скорбит о безвременном уходе Юрия Коваля.
I—VI * VII * VIII * IX—X * XI—XV * XVI * XVII * XVIII * XIX—XXX * XXXI—XXXII * XXXIII * XXXIV * XXXV * XXXVI * XXXVII * XXXVIII * XXXIX * XL—XLI * XLII—XLVII * XLVIII * XLIX—LI * LII * LIII * LIV—LV * LVI * LVII—LXI * LXII * LXIII * LXIV—LXVI * LXVII * LXVIII * LXIX * LXX * LXXI * LXXII * LXXIII * LXXIV * LXXV * LXXVI—LXXVII * LXXVIII * LXXIX * LXXX * LXXXI * LXXXII * LXXXIII * LXXXIV * LXXXV * LXXXVI * LXXXVII * LXXXVIII * LXXXIX * XC—XCI * XCII * XCIII * XCIV—XCVII * XCVIII * XCIX |
|
Темный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана.
Наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии.
— Грот-фок на гитовы! — раздалось с капитанского мостика.
Вмиг оборвалось шестнадцать храпов, и тридцать три* мозолистых подошвы выбили на палубе утреннюю зóрю. Только мадам Френкель не выбила зóрю. Она плотнее закуталась в свое одеяло.
* Незначительный перебор подошв связан с журнальностью варианта. В нежурнальном
варианте
подошв, правда, тоже 33, но есть там и глава «Блуждающая подошва» —
издательство «Аргус»,
Москва, рисунки автора, возможно, 1996 год. (Здесь и далее
прим. автора.)
Глава I—VI**. ШТОРМ
** Падение культуры пристального чтения в конце XX века, а также
перебои с
пергаментом и сердцем принудили автора не только к сдваиванию,
но даже, как
видим, и к сошестерению некоторых глав.
Служил у нас на «Лавре» впередсмотрящий. Ящиков.
А мы решили еще и назадсмотрящего завести. Надо иногда, знаете, и оглянуться. Короче — завели. Завести-то завели, а фамилию ему давать не стали. Ну на кой, скажите, пес, назадсмотрящему фамилия?
— Дайте же хоть какую-нибудь, — он говорит, — ну хоть бы — Бунин.
Насмешил нас тогда этот назад смотрящий. Бунина захотел.
А тут впередсмотрящий кричит:
— Идет шторм!
— Шторм? — удивился наш капитан сэр Суер-Выер. — Так ведь он умер.
— А это другой шторм идет!
— И другой умер, — сказал Суер. — Через два года.
— Знаете что, капитан! Свищите лучше всех наверх!
— Рак, — пояснил капитан то ли про первого, то ли про второго Шторма.
— А ну вас всех, прости меня Господи, — сказал назадсмотрящий. — Понасели на «Лавра Георгиевича» и плывут незнамо куда, гады!
— У обоих, — закончил Суер предыдущую мысль.
Перед бурей утихли волны. В тишине слышался скрип нашей ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Френкель еще плотнее закутывалась в свое одеяло.
Глава VII. РАЗВЛЕЧЕНИЕ БОЦМАНА
Служил у нас на «Лавре» боцман Чугайло. Он уже несколько месяцев не сходил с борта и совершенно озверевал.
— Хочу развлечений! — ревел он иногда в своей каюте.
Правда, еще издали было видно, что особых развлечений на этом острове не состоится. Посредине стояло какое-то сухое дерево, а вокруг сплошной камень.
— Это ничего, — говорил Суер, — походит вокруг дерева, глядишь — и развлечется.
Ну, мы сошли на берег и открыли остров. А потом сели на камушек, а{57} боцмана пустили ходить вокруг сухого дерева. И он начал ходить, а мы смотрели, как он ходит, и перемигивались.
— Неплохо ходит, холера!
— Господин Чугайло! — кричал Пахомыч. — Да вы побыстрее ходите, а то не развлечетесь.
— Сам знаю, как хожу! — ревел боцман. — Развлекаюсь, как умею.
— Чепуха, — сказал лоцман Кацман, — так он не развлечется никогда в жизни. Давайте потихоньку сядем в шлюпку и уплывем, вот тут он и развлечется.
И мы сели в шлюпку и отплыли на три кабельтова. Боцман Чугайло вначале не заметил нашего маневра и ходил, тупо глядя в землю, а когда заметил — забегал вокруг дерева, то и дело падая на колени.
— Вы куда? — орал он. — Вы куда?
Ничего не мог он придумать, кроме этой моржовой фразы. Ясно куда: на «Лавра».
— Не покидайте меня, братцы, — орал Чугайло в пространство, а мы посмеивались и делали вид, что навеки уплываем.
— А что? — сказал Суер. — Может, и вправду оставить его на острове? Надоел ужасно. Ходит всюду, плюется и сморкается. Всего «Лавра Георгиевича» заплевал.
— Давайте оставим, — сказал Пахомыч.
Думали мы думали и решили оставить боцмана на острове. Хрен с ним, пускай развлекается.
Глава VIII. СЛАВНАЯ КОНЧИНА
Я совсем забыл сказать, что с нами тогда на борту был адмиралиссимус. Звали его Онисим. И многим не нравилось поведение адмиралиссимуса. Герой Босфора, мученик Дарданел, он совсем уже выжил из ума, бесконечно онанировал и выкрикивал порой бессвязные команды, вроде:
— Тришка! Подай сюда графин какао, сукин кот!
В другой раз он беспокойно хлопал себя по лысинке, спрашивая:
— Где моё какаду?
Чаще же всего он сидел на полубаке и шептал в пространство:
— Как дам по уху — тогда узнаешь!
Матросы не обижали старика, а Суер по-отечески его жалел.
Один раз Суер велел боцману переодеться Тришкой и подать Онисиму графин какао. Какао, как и Тришка, был поддельным — желуди да жженый овес, кокосовый жмых, дуст, немного мышьяка, — но адмирал выпил весь графин.
— Где моё какаду? — распаренно расспрашивал он.
Суер-Выер велел нам тогда поймать на каком-нибудь острове какаду. Ну, мы поймали, понесли мученику и герою.
— Вот ваше какаду, экселенс! — орали мы, подсовывая попугая старому морепроходцу.
Адмиралиссимус восхитился, хлопал какаду по плечам и кричал:
— Как дам по уху — тогда узнаешь!
Стали мы подкладывать лоцмана Кацмана, чтоб адмиралиссимус ему по уху дал. Но лоцман отнекивался, некогда ему, он фарватер смотрит. А какой там был фарватер — смех один: буи да створы. Навалились мы на лоцмана, повели до адмиралиссимуса.
Старик Онисим размахнулся, да так маханул, что сам за борт и вылетел.
— Вот кончина, достойная адмиралиссимуса, — сказал наш капитан Суер-Выер. Потом уже на специально открытом острове мы поставили памятный камень с подобающей к случаю эпитафией:
Адмиралиссимус Онисим
Был справедлив, но — онанисим.
Глава IX—X. САМСОН-СЕНОГНОЙ
Лоцман Кацман разрыдался однажды у мачты, на которой к празднику мы развесили кренделя.
— Жалко Чугайлу, — всхлипывал он. — Давайте вернемся, капитан. А, наверно, уж с полгода прошло, как мы оставили боцмана на острове.
— Ладно, — сказал наш простосердечный капитан, — вот откушаем празд{58}ничного суфле и назад поплывем. Ну, откушали мы суфле, поплыли назад. Смотрим — Чугайло жив-здоров, бегает вокруг сухого дерева.
— Неужто еще не развлёкся? — удивился Суер.
А боцман, как увидел нашу шлюпку, стал камнями кидаться. Во многих он тогда попал. Высадились мы на остров, связали боцмана, сели под дерево и рассуждаем, что же дальше делать? Забросает же камнями, ватрушка!
Сидим эдак, вдруг слышим, Кацман кричит:
— Почки!
Лоцман почки кричит:
— Почки!
И пузырьки какие-то лопаются! Батюшки-барашки! На ветвях-то сухого дерева появились настоящие растительные почки! И лопаются, а из них листочки выскакивают. Растительные!
— Боцман! — Суер кричит. — Откуда почки?
— Не знаю, — мычит боцман, мы-то ему в рот кляп засунули, чтоб не плевался. — Не знаю, — мычит.
— Развиваются! — закричал Кацман, и мы увидели, что листочки позеленели, а из-под них цветы расцвели. Бросили мы боцмана, кинулись цветы нюхать. Только нанюхались — цветы все опали.
— Что же теперь делать? — спрашиваем капитана. — Опали наши цветочки!
— Ждать появления плодов, — размыслил Суер.
И плоды не заставили себя ждать. Вначале-то появились такие маленькие, зелененькие, похожие на собачью мордочку, а потом стали наливаться, наливаться. Лоцман цоп с ветки плодочек — и жрет!
Капитан хлопнул его по рукам:
— Незрелое!
— Я люблю незрелое! Люблю! — плакал лоцман и жадно, как лягушонок, хватал плодочки.
Связали мы лоцмана и стали ждать, когда плоды созреют. И вот они созрели прямо на глазах.
— Неужели груши? — мычал через кляп боцман. — Ранет бергамотный?! Накидали мы целую шлюпку груш, развязали боцмана с лоцманом и отбыли на «Лавра». Потом-то, уже на борту, мы долго размышляли, с чего это сухая груша столько вдруг всего наплодоносила.
— Она расцвела от наших благородных поступков, — сказал Кацман.
— Каких же это таких?
— Ну вот, мы бросили боцмана на острове. Какой это был поступок: благородный или не благородный?
— Благородный, — сказал Пахомыч. — Он нам всего «Лавра Георгиевича» заплевал.
Сэр Суер-Выер засмеялся и выдал старпому особо спелую и гордую грушу.
— Ну нет, — сказал он, — благородный поступок был, когда мы за ним приехали. И груше это явно понравилось.
— Ерунда, кэп, — сказал боцман, вынимая изо рта очередной кляп свой. — Пока я бегал по острову, я ей все корни обтоптал.
Разгоряченный грушами лоцман запел и заплясал, и боцман, раскидывая кляпы, затопал каблуком. Мы обнялись и долго танцевали у двери мадам Френкель:
Мадам! Спасите наши души
От поедания плодов!
А то мы будем кушать груши
До наступленья холодов!
Эх, и хороший же тогда у нас получился праздник. Ну, прямо Самсон-Сеногной!
Глава XI—XV*. XРЕНОВ И СЕМЕНОВ
* Здесь надо отметить, что боцмана Чугайло все-таки пожалели в одной из сопятеренных глав.
Издали мы заметили клубы и клóки великого дыма, которые подымались над океаном.
— Это горит танкер «Кентукки», сэр, — докладывал капитану механик Семенов. — Надо держаться в стороне.
{59}Никакого танкера, к сожалению, не горело. Дым валил с острова, застроенного избушками, крытыми рубероидом. Из дверей избушек и валил дым.
— Высаживаться на остров будем небольшими группами, — решил капитан. — Запустим для начала мичмана и механика. Хренов! Семенов! В ялик!
Пока Хренов и Семенов искали резиновые сапоги, из неведомых сооружений выскочило два десятка голых мужчин. Они кинулись в океан с криком:
— Легчает! Легчает!
Наши Семенов с Хреновым отчего-то перепугались, стали отнекиваться от сходу на берег и все время искали сапоги. Кое-как, прямо в носках, мы бросили их в ялик, и течение подтащило суденышко к голозадым туземцам. Те, на ялик внимания не обращая, снова вбежали вовнутрь неведомых сооружений.
Спрятав лодку в прибрежных кустах, мичман и механик стали подкрадываться к ближайшему неведомому сооружению. В подзорную трубу мы видели, как трусливы и нерешительны они.
Наконец, прячась друг за друга, они вползли в сооружение.
Как ни странно — ничего не произошло. Только из другого неведомого сооружения вышел голый, поглядел на наш корабль, плюнул и вошел обратно.
Этот плевок оскорбил капитана.
— Бескультурие, — говорил он, — вот главный бич открываемых нами островов. Дерутся, плюются, голыми бегают. У нас на «Лавре» это все-таки редкость. Когда же мы откроем остров подлинного благородства и культуры? Когда?!
Между тем дверь ближайшей избушки распахнулась, и на свет явились голые Хренов и Семенов. Они кинулись в океан с криком:
— Легчает! Легчает!
Группами и поодиночке из других сооружений выскочили и другие голые люди. Они скакали в волнах, кричали, и скоро невозможно было разобрать, где среди них Хренов, а где Семенов.
— Не вижу наших эмиссаров, — волновался капитан. — Старпом, шлюпку! Спустили шлюпку, в которую и погрузились старые опытные открыватели новых островов: ну, лоцман, Пахомыч и мы с капитаном. Голые джентльмены, гогоча, ухватились за наши весла.
— Раздевайтесь скорее! — кричали они.
Слабовольный Кацман скинул бушлат.
— Хренов-Семенов! Хренов-Семенов! — беспокойно взывал капитан.
К нашему изумлению, среди голых джентльменов оказалось несколько Семеновых и два, что ль, или три Хренова. Они подплывали на вечный зов капитана и глядели в шлюпку красными тюленьими глазами.
Какой-то липовый Хренов выставил из-под волны нос и закричал:
— Неужто это Суер? А я думал, тебя давно сожрали туземцы!
— Уйди в океан! — ревел старпом, пихая веслом неправильного Хренова.
— Так я же Хренов! Вначале зовут, а потом отпихивают.
— Тоже мне Хренов дерьмовый! У нас уж Хренов так Хренов.
К сожалению, наш Хренов, который, наконец, появился, такого уж слишком сложного явления не представлял.
— Высаживайтесь, кэп, — красноносо хрюкал он. — Легчает!
— А нам пора на воблу, — объяснял Семенов.
Глава XVI. ОСТРОВ НЕПОДДЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ
Могучий клич «Пора на воблу!» поддержали и другие голые люди этого острова.
— И на пиво! — добавляли некоторые другие раздетые.
Хренов и Семенов чрезвычайно обрадовались, услыхавши такое добавление.
— Пора на воблу и на пиво! — восторгались они.
— Кажется, они продали нас, — сказал Пахомыч. — За воблу.
— И за пиво, — добавил Кацман.
Мы подплыли ближе и увидели, что все голые люди, а с ними и наши орлы, подоставали откуда-то кружки с пивом.
Какой-то Хренов, кажется, не наш, выскочил на берег, обвешанный гирляндами воблы. Эти гирлянды болтались на нем, как ожерелья на туземных фаэтонках. Он раздавал всем по вобле на брата, а остальные приплясывали вокруг:
— Вобла оттягивает!
— Неужели это так? — говорил Суер. — Неужели стоит только раздеться, и{60} тебе выдают пиво и воблу? Ни в одной стране мира я не встречал такого обычая. Иногда я задумываюсь, а не пора ли и мне на воблу?
— И на пиво, сэр, — пискнул Кацман.
Мы оглянулись и увидели, что лоцман сидит в шлюпке абсолютно голый. Он дрогнул под взглядом капитана, и синяя русалка, выколотая на его груди, нырнула подмышку.
— Ладно, раздевайтесь, хлопцы, — сказал капитан. — Мы еще не едали воблы на отдаленных берегах.
И он снял свой капитанский френч.
Мы с Пахомычем не стали жеманиться, скинули жилеты и обнажили свои татуировки.
Шлюпка пристала к берегу. Тут же к нам подскочили Хренов и Семенов и выдали каждому по кружке пива и по хорошей вобле. Славно провяленная, она пахла солью и свободой.
— Пиво в тень! — приказал капитан. — Вначале войдем в неведомое сооружение. Все по порядку.
Мы прикрыли свои кружки воблой и поставили в тенек, а рачительный Пахомыч накрыл все это дело лопушком.
На ближайшем неведомом сооружении висела вывеска:
ВОРОНЦОВСКИЕ БАНИ
— Что за оказия? — удивился Суер. — Воронцовские бани в Москве, как раз у Ново-Спасского монастыря.
— И здесь тоже, сэр! — вскричал Хренов.
— Здесь и Семеновские есть! — добавил Семенов. — А в Москве Семеновские ликвидировали!
Тут из Воронцовских бань выскочил сизорожий господин и крикнул:
— Скорее! Скорее! Я только что кинул!
И мы ворвались в предбанник, а оттуда прямо в парилку.
Чудовищный жар охватил наши татуировки.
С лоцмана ринул такой поток пота, что я невольно вспомнил о течении Ксиво-Пиво. Удивительно было, что наш слабовольный лоцман сумел произвести такое мощное явление природы.
— Что же это? — шептал он. — Неужто это остров неподдельного счастья?
Да, это было так. Счастье полное, чистое, никакой подделки. Жители острова парились и мылись с утра и до вечера. Мыло и веники березовые им выдавались бесплатно, а за пиво и воблу они должны были только радостно скакать.
Весь день мы парились и мылись, скакали за пиво и прятали его под лопушки, и доставали, доставали, поверьте, из лопушков, и обгладывали воблью головку, и прыгали в океан. Пахомыч до того напарился, что смыл почти все свои татуировки, кроме, конечно, надписи: «Помни заветы матери»; А надпись: «Нет в жизни счастья» он смыл бесповоротно. Счастье было! Вот оно было! Прямо перед нами!
В тот день мы побывали в Тетеринских, Можайских, Богородских, Донских, Дангауэровских, Хлебниковских, Оружейных, Кадашевских банях и, конечно, в Сандунах. Оказалось, что на острове имеются все московские бани.
— Откуда такое богатство? — удивлялся Суер.
— Эмигранты повывезли, — ответствовали островитяне.
К вечеру на берегу запылали костры и, раскачиваясь в лад, островитяне запели песню, необходимую для их организма:
В нашей жизни и темной и странной
Все ж имеется светлая грань.
Это с веником в день постоянный
Посещенье общественных бань.
Что вода для простого народа?
Это просто простая вода.
Братства банного дух и свобода
Нас всегда привлекали сюда.
Тело — голое! Сердце — открытое!
Грудь — горячая! Хочется жить!
В наших банях Россия немытая
Омовенье спешит совершить!
Они пели и плакали, вспоминая далекую Россию.
— Мы-то отмылись, — всхлипывали некоторые, — а Россия...
{61}Я и сам напелся и наплакался и задремал на плече капитана. Задремывая, я думал, что на этом острове можно бы остаться на всю жизнь.
— Бежим! — шепнул мне вдруг капитан. — Бежим, иначе нам не открыть больше ни одного острова. Мы здесь погибнем. Лучше ходить немытым, чем прокиснуть в глубоком наслажденье.
И мы растолкали наших спящих сопарилыциков, кое-как приодели их, затолкали в шлюпку и покинули остров неподдельного счастья, о чем впоследствии множество раз сожалели.
Глава XVII. МУДРОСТЬ КАПИТАНА
Только уже ночью, подплывая к «Лавру», мы обнаружили, что, кроме мичмана, прихватили с собой случайно еще одного Хренова. Ложного. Это Пахомыч расстарался в темноте.
— Не понимаю, старпом, — досадовал Суер, — на кой нам на «Лавре» два Хренова? Я и одним сыт по горло.
— Не знаю, кэп, — оправдывался Пахомыч. — Орут все: «Хренов, Хренов», ну я и перепутал, прихватил лишнего.
— А лишнего Семенова вы не прихватили?
Стали считать Семеновых, которых, слава Богу, оказалось один.
— А вдруг это не наш Семенов? Потрясите его.
Мы потрясли подозреваемого. Он мычал и хватался за какие-то пассатижи.
— Наш, — успокоился капитан.
— Что же делать с лишним Хреновым, сэр? — спрашивал старпом. — Прикажете выбросить?
— Очень уж негуманно, — морщился Суер, — здесь полно акул. К тому же неизвестно, какой Хренов лучше: наш или ложный?
Оба Хренова сидели на банке, тесно прижавшись друг к другу. Они посинели и дрожали, а наш посинел особенно. Мне стало жалко Хреновых, и я сказал:
— Оставим обоих, кэп. Вон они какие синенькие.
— Ну нет, — ответил Суер, — «Лавр Георгиевич» этого не потерпит.
— Тогда возьмем того, что посинел сильнее.
Наш Хренов приободрился, а ложный напрягся и вдруг посинел сильнее нашего. Тут и наш Хренов стал синеть изо всех сил, но ложного не пересинил. Это неожиданно понравилось капитану.
— Зачем нам такой синий Хренов? — рассуждал он. — Хватит и нашего.
— Капитан! — взмолился ложный Хренов. — Пожалейте меня! Возьмите на борт. Хотите, я покраснею?
— А позеленеть можете?
— Могу что угодно: краснеть, синеть, зеленеть, желтеть, белеть, сереть и чернеть.
— Ну тогда ты, парень, не пропадешь, — сказал капитан и одним махом выкинул за борт неправильного Хренова.
И ложный Хренов, действительно, не пропал. Как только к нему приближались акулы, он то синел морскою волной, то зеленел, будто островок водорослей, то краснел, как тряпочка, выброшенная за борт.
Глава XVIII. ОСТРОВ БОЛЬШОГО ВНА
Это был единственный остров, на который сэр Суер-Выер решил не сходить.
— Останусь на борту, — твердил он.
— В чем дело, кэп? — спрашивали мы с лоцманом. — Все-таки это не полагается. Открывать остров без вас как-то неудобно.
— Ничего страшного. Откроете один остров без меня.
— Но нам важно знать причины, — настаивал лоцман. — В чем причины вашего несхода на берег?
— Причины личного порядка, — отвечал Суер. — С острова пахнет.
Мы принюхались, но никакого запаха не ощутили.
Остров был явно вулканического происхождения.
Посредине возвышался давно, кажется, потухший вулкан. Лава изверглась из него, застыла и окаменела. Она стекала к берегу плавными грядами.
— Возьмите с собою мичмана Хренова, — рекомендовал нам капитан. — Остров унылый и гнусный, может быть, хоть мичман что-нибудь отчебучит.
{62}На берег мы высадились в таком порядке: Пахомыч, лоцман и мичман. Я замыкал шествие, крайне огорченный отсутствием капитана. Кроме того, мне казалось, что действительно чем-то пахнет.
Первым делом мы решили взобраться на вулкан и посмотреть, действует ли он или уже бездействует.
— Кажется, бездействует, — рассуждал я, — но какой-то запах испускает, значит, немного действует. Чем же это пахнет?
— Да не пахнет ничем, — успокаивал Пахомыч. — А если и пахнет, так это вулканической пемзой, ну той, которой ноги моют. Весьма специфический запах.
— А по-моему пахнет чем-то более тонким, — спорил с ним лоцман.
Мичман Хренов вроде бы и не чувствовал никаких запахов. Ничего пока не отчебучивая, он дышал полной грудью, довольный, что его списали на берег.
Так мы продвигались по направлению к вулкану, медленно поднимаясь на его отроги. Удивляло отсутствие чего-нибудь живого, хоть бы птичка какая или травинка — лава, лава, лава.
Отчебучил неожиданно лоцман.
— У меня что-то с животом, — сказал вдруг он. — Бурчит что-то. Это, наверно, акулья кулебяка! Наш кок Хашкин ее недожарил. Не могу больше.
И лоцман вдруг скинул шаровары и стремительно присел.
Этот жест лоцмана послужил неминуемым сигналом. Мы все сразу вдруг почувствовали неправильность акульей кулебяки. Пахомыч крепился, а мы с мичманом, ругая кока Хашкина, решили немедленно испытать облегчение и присели.
Оправившись чин по чину, мы продолжили восхождение.
Вдруг не выдержал Пахомыч. И этот мощный дуб внезапно рухнул, то есть повторил наши поступки.
С ним за компанию присел и лоцман.
Мы с мичманом продержались минутки две и, ругая Хашкина, вторично испытали облегчение, за нами вскорости лоцман и снова Пахомыч.
Это было какое-то чудовищное действие акульей кулебяки.
Мы продолжали восхождение, но уже приседали через каждые пять шагов по очереди. В единицу времени из всех четверых, движущихся к вулкану, был по крайней мере один приседающий.
— Боже мой, — сказал вдруг лоцман, — я все понял! Все это вокруг нас вовсе не вулканическая лава.
— А что же это? — воскликнули мы, смутно догадываясь.
— Это — вно!
— Не может быть, — сказал мичман. — Откуда вно? Ведь здесь же нету ни одного человека. Откуда взяться вну?
И тут в недрах острова послышались какие-то взрывы и толчки. Что-то заклекотало, забурчало, забулькало.
— Назад! Назад! — закричал старпом. — Скорее в шлюпку!
В его голосе прозвучал такой неподдельный ужас, что мы кинулись к берегу. Остров затрясся. Оглушительный взрыв раздался на вершине вулкана, и из кратера вырвалось облако удушливого газа.
— Боже мой! Боже! — орал мичман, полуоглядываясь. — Обратите внимание на форму вулкана! Это же каменная задница!
Мы бежали к шлюпке, а вулкан действовал уже вовсю. Лава, если это было можно так назвать, перла из жерла потоками. Она нагоняла нас, нагоняла.
Первым увяз мичман, за ним лоцман.
Только мы с Пахомычем успели вспрыгнуть в шлюпку. Лоцман и мичман прочно увязли во вне.
— Внодышащий вулкан! Внодышащий вулкан! — орал лоцман. — Сэр старпом, не покидайте нас, а то мы утопнем во вне! Стар-пом-сэр! Стар-сэр-пом!
Хренов, к удивлению, отбрыкивался от вна меланхолически.
— Бывали мы и во вне, — бурчал он, — и не раз еще будем, так что чем-чем, а вном нас не удивишь. Кстати, мне кажется, что это уже не совсем чистое вно, состав его как-то переменился. Господин старпом, бросьте мне черпак.
Пахомыч бросил ему черпак. Мичман черпанул вна и стал его внимательно изучать в монокль. Только тут мы заметили, что так называемая внолава заблистала под пасмурным небом тяжело, желто и металлически.
— Это уже не вно, — сказал Хренов, — это золото. Киньте мне корзинку. И, действительно, золото, черт побери, золото перло из жерла, сдобренное, правда, невероятнейшим запахом.
— Это не золото, — сказал Пахомыч. — Это — золотое вно.
{63}Он кинул мичману корзину, и мичман, зажимая нос, набрал полную корзину золотого вна. Потом, уже на борту, он вручил эту корзину нашему капитану.
— Похоже на золото, сэр, — сказал он. — Большая редкость, думаю, что дорого стоит.
— Отчего же такая вонь?
— Думается, что это все-таки не совсем золото, а скорей золотое вно, — сказал мичман, — но я знаю в Москве пару банков, в которых особое чутье на золото. Они затыкают нос, сэр, поверьте, заткнут и на этот раз.
— Вно есть вно, — сказал Суер, — даже и золотое, — и он одним ударом капитанского сапога вышиб за борт корзину с золотым вном.
Корзина, конечно, не затонула и до сих пор болтается где-то на волнах Великого океана.
Глава XIX—XXX. ОСТРОВ ПОНИЖЕННОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ
Этот непознанный остров, это причудливое изобретение природы вначале просто-напросто никто не заметил. Дело в том, что он лежал ниже уровня океана. И значительно! Метра на четыре с половиной!
Не знаю уж, каким чудом мы не напоролись на рифы и вообще не ввалились вместе со всем нашим «Лавром Георгиевичем» в бездну этого куска суши. А волны морские, дотекая до острова, странным образом обходили его стороной, не говоря уж о приливах и отливах.
Мы притормозили «Лавра» на гребне какого-то полудевятого вала, отдали якоря... гм... боцману Чугайле, и он, поиграв с ними, бросил якоря в воду.
К сожалению, боцман промахнулся, и один якорек, названием «верп», залепил прямо на остров.
Наш верп, прилетевший с неба, вызвал значительный переполох среди жителей. В нижнем белье они выскочили на улицу из своих домиков, в большинстве девятиэтажных с лоджиями, и принялись скакать вокруг якоря. Некоторые решительно хватали верп наш и пытались забросить его на «Лавра».
— Сбросить верп полегче, чем закинуть на борт, — заметил Пахомыч, крайне недовольный боцманом. — Господин Чугайло, вы мне еще ответите за этот якорь.
— Господин старпом, обратно я заброшу его играючи.
По якорной цепи боцман ловко, как шимпанзе, спустился на остров и только хотел кинуть верп, как туземцы окружили его, схватили и стали, как говорится, бить боцмана в белы груди. Боцман машинально отвечал тем же.
— Сэр! Сэр! — кричали мы капитану. — Они бьют друг друга в белы груди!
— В сущности, — отвечал Суер, — некоторые из побиваемых грудей не так уж и белы. Но, конечно, надо выручать боцмана.
Вслед за капитаном и лоцманом и мы с Пахомычем поползли вниз по якорной цепи. Как только мы ступили на сушу, туземцы кинулись на нас.
— Позвольте, — сказал Суер-Выер, — неужели на вас сверху ничего не кидали? Чего вы так разъярились?
— Кидали! — орали туземцы. — Вечно нас забрасывают всякою дрянью!
— Верп — вещь порядочная, очень изящный якорек, — сказал Суер. — А кто тут у вас за старшого?
Вперед выступил невысокий туземец с подушкой в руках.
— Позвольте представиться, — поклонился ему капитан. — Суер-Выер.
Туземец протянул руку:
— Калий Оротат.
— Боже мой! — сказал Суер. — Неужели Калий? Калий Оротат? Гениальный поэт? Это так?
— Да здесь все поэты, — недовольно поморщился Калий Оротат.
— Неужто все пишут? — удивлялся Суер.
— Вовсю, — сказал Калий. —Да вы что, разве не слыхали про нас? Это ведь остров пониженной гениальности. Нас сюда забросили катапультой.
— Всех сразу? Одной катапультой?
— Да нет, разными. Из разных концов планеты. Но в большинстве пишут на русском. Даже вон тот парень по национальности сервант, и тот пишет на русском. Эй, сервант, почитай что-нибудь достойным господам.
— Прямо не знаю, что и почитать, — сказал сервант. — У меня много философской лирики, циклы верлибров, лимерики, танки, сонеты.
— Почитайте нам что-нибудь из философской лирики, — предложил лоцман Кацман, глотнув мадеры.
{64}Сервант поклонился:
Остров есть на окияне,
А кругом — вода.
Пальмы стройными киями,
Тигры, овода.
Я хочу на остров дальный
Топоров послать,
Палем блеск пирамидальный
Дабы порубать.
Чтоб горели топорами
Яхонты селитр,
Открывая штопорами
Керосину литр.
Чтобы штопором топорить
Окаянный мир,
Чтобы штормом откупорить
Океанный жир!
— Ну, это же совсем неплохо! — воскликнул Суер, похлопывая серванта по плечу. — Какая рифма: «тигры — овода»! А как топоры горели?! Мне даже очень понравилось.
— А мне так про керосину литр, — встрял неожиданно Чугайло. — Только не пойму, почему керосину. Напишите лучше «самогону литр», будет сильней.
— А мне так очень много философии послышалось в слове «селитра», — сказал лоцман. — И в штопоре такая глубокая, я бы даже сказал, спиральная философия, ведь не только искусство, но и история человека развивается по спирали. Неплохо, очень неплохо.
— Может быть, и неплохо, — скептически прищурился Калий Оротат, — но разве гениально? Не очень гениально, не очень. А если и гениально, то как-то пониженно, вы чувствуете? В этом-то вся загвоздка. Все наши ребята пишут неплохо и даже порой гениально, но... но... как-то пониженно, вот что обидно.
— Перестаньте сокрушаться, Калий, — улыбнулся капитан. — Гениальность, даже и пониженная, все-таки гениальность. Радоваться надо. Почитайте теперь вы, а мы оценим вашу гениальность.
— Извольте слушать, — поклонился поэт:
Ты не бойся, но знай:
В этой грустной судьбе
На корявых обкусанных лапах
Приближаются сзади и сбоку к тебе
Зависть, Злоба, Запах.
Напряженное сердце держи и молчи,
Но готовься, посматривай в оба.
Зарождаются днем, дозревают в ночи
Зависть, Запах, Злоба.
Нержавеющий кольт между тем заряжай,
Но держи под подушкой покамест.
Видишь Запах — по Злобе, не целясь, стреляй, Попадешь обязательно в Зависть.
Не убьешь, но — стреляй!
Не удушишь — души!
Не горюй и под крышкою гроба.
Поползут по следам твоей грустной души
Зависть, Запах, Злоба.
— Бог мой! — сказал Суер, прижимая поэта к груди. — Это — гениально!
— Вы думаете? — смутился Оротат.
— Чувствую! — воскликнул Суер. — Ведь всегда было «ЗЗЖ», а вы создали три «3». Потрясающе! «Зависть, Злоба, Жадность» — вот о чем писали великие гуманисты, а вы нашли самое емкое — «Запах»! Какие пласты мысли, образа, чувства!
— Да-да, — поддержал капитана лоцман Кацман. — Гениально.
— А не пониженно ли? — жалобно спрашивал поэт.
{65}— Повышенно! — орал Чугайло. — Все хреновина! Повышенно, Колька! Молоток! Не бзди горохом!
— Эх, — вздыхал поэт, — я понимаю, вы — добрые люди, хотите меня поддержать, но я и сам чувствую... пониженно. Все-таки пониженно. Обидно ужасно. Обидно. А ничего поделать не могу. Что ни напишу — вроде бы гениально, а после чувствую: пониженно, пониженно. Ужасные муки, капитан.
Между прочим, пока Калий читал и жаловался, я заметил, что из толпы туземных поэтов все время то вычленялись, то вчленивались обратно какие-то пятнистые собакоиды, напоминающие гиенопардов.
— Это они, — прошептал вдруг Калий Оротат, хватая за рукав нашего капитана, — это они, три ужасные «Зэ», они постоянно овеществляются, верней, оживотновляются, становятся собакоидами и гиенопардами. Постоянно терзают меня. Вот почему я все время ношу подушку.
Тут первый собакоид — черный с красными и желтыми звездами на боках — бросился к поэту, хотел схватить за горло, но Калий выхватил из-под подушки кольт и расстрелял монстра тремя выстрелами.
Другой псопард — желтый с черными и красными звездами — подкрался к нашему капитану, но боцман схватил верп и одним ударом размозжил плоскую балду с зубами.
Красный гиенопес — с черными и желтыми звездами — подскакал к Пахомычу и, как шприц, впился в чугунную ляжку старпома.
Она оказалась настолько тверда, что морда-игла обломилась, а старпом схватил поганую шавку за хвост и швырнул ее куда-то в полуподвалы.
— Беспокоюсь, сэр, — наклонился старпом к капитану, — как бы в этих местах наша собственная гениальность не понизилась. Не пора ли на «Лавра»?
— Прощайте, Калий! — сказал капитан. — И поверьте мне на слово: гениальность, даже пониженная, всегда все-таки лучше повышенной бездарности.
Боцман Чугайло схватил якорь, все мы уцепились за цепь, и боцман вместе с самим собою и с нами метнул верп обратно на «Лавра».
Сверху с гребня полудевятого вала мы бросили прощальный взор на остров пониженной гениальности. Там, внизу, по улицам и переулкам метался Калий Оротат, а за ним гнались вновь ожившие пятнистые собакоиды.
Глава XXXI—XXXII. ОСТРОВ ГОЛЫX ЖЕНЩИН
Никаких женщин мы не смогли различить поначалу даже в самую сильную телескопическую трубу. Да и то сказать: у трубы топталось столько матросов, что окуляры отпотевали.
Наконец, на песчаный бережок вышли две дамы в резиновых сапогах, кашпо и телогрейках. Они имели золотые на носу пенснэ.
Заприметив нашего «Лавра», дамы принялись раздеваться.
Мы крепились у телескопа, как вдруг боцман Чугайло содрал с головы фуражку, шмякнул ею об палубу и прямо с борта кинулся в океан.
Ввинчиваясь в воду, как мохнатый шуруп, он с рычаньем поплыл к острову.
Мы быстро сплели из корабельного каната лассо, метнули и вытащили рычащего боцмана обратно на «Лавра».
Тут перенапрягся матрос Вампиров. Побледнел и вывалился за борт.
Мы мигом метнули.лассо, но в момент покрытия Вампиров предательски нырнул, и лассо вернулось на борт пустым, как ведро.
Тщательно прячась за волнами, Вампиров приближался к женщинам. Мы метали и метали лассо, но находчивый матрос всякий раз нырял, и наш адский аркан приносил лишь медуз и электрических скатов. Правда, на семьдесят четвертом броске притащил он и тарелочку горячих щей с профитролями.
Выскочив на песок, Вампиров, простирая длани, бросился к голым женщинам. В этот момент наше зверское лассо ухватило все-таки за ногу находчивого матроса, проволокло по песку и задним ходом втащило обратно на корабль.
И вдруг на берегу рядом с женщинами объявились все-таки два подозрительных типа. Ими оказались мичман Хренов и механик Семенов.
Втайне от нас дружки спрыгнули в океан с другого борта и, не дыша, проплыли к острову под водой. Не говоря лишнего слова, они увлекли хохочущих женщин в заросли карбонария и челесты.
Мы как следует навострили лассо и метнули его в эти заросли, надеясь, что оно само найдет себе пищу. И оно нашло. Притащило на борт два золотых пенснэ. Как два тонколапых краба, пенснэ забегали по палубе, корябались и бренчали, {66}пока матросы не засунули их в банку с водой. Им насыпали в банку хлебных крошек, и пенснэ успокоились. Они плавали в банке, поклевывая крошки.
— Уберите к чертовой матери наше лассо, — сказал капитан. — Старпом, спускайте шлюпку.
Глава XXXIII. БЛЕСК ПОЩЕЧИН
Прихватив с собою на остров богатые дары: перец, лакрицу, бефстроганов, мы погрузились в шлюпку.
— Как прикажете, сэр? — спрашивал Пахомыч капитана. — Отобрать голых женщин у мичмана с механиком?
— Да не стоит, — отвечал благодушный капитан. — Пусть отдыхают от тяжелых матросских служб.
— Надо отнять! — возмущался лоцман. — А то нам не хватит!
— Успокойтесь, Кацман! Неужто вы думаете, что на этом острове всего две голые женщины? Найдется и для нас чего-нибудь.
— Первую — мне, — неожиданно потребовал лоцман. — Это, в конце концов, я провел «Лавра» к острову.
— Пожалуйста, пожалуйста, — согласился капитан.
За карбонарием располагалась пестрая лагуна.
Там, по песку разбросаны были маленькие ручные зеркала. Они блестели на солнце и пускали в разные стороны пронзительные зайцы.
На краю лагуны лежала голая женщина.
— Вот она! — закричал лоцман. — Вот она! Моя, сэр, моя! Мы так договаривались.
Лоцман подбежал к голой женщине и, недолго думая, схватил ее за колено.
— Моя голая женщина, моя, — дрожал он, поглаживая колено.
Дремавшая до этого женщина приоткрыла очи.
— Это еще кто такое? — спросила она, разглядывая лоцмана.
— Это я — лоцман Кацман.
— Попрошу без хамства, — сказала женщина. — Ты кто такой?
— Я же говорю: лоцман Кацман.
Тут женщина приподнялась, подкрасила губы и, вздрогнув грудью, закатила лоцману пощечину.
— Я предупреждала, — сказала она. — Не сквернословить. Ты кто?
Лоцман внутренне сжался в комок нервов и желаний.
— Я тот, — прошептал он, — ...
— Который?
— Ну тот... кто призван насладиться твоим роскошным телом.
Женщина кокетливо захихикала.
— А я-то думала, — посмеивалась она, — а я-то думала...
— Что ты думала, радость моя?
— А я думала, что ты — лоцман Кацман.
— Наконец-то, — вздохнул лоцман. — Конечно, я и есть лоцман Кацман.
Женщина нахмурилась.
— Не сквернословь! — сказала она и снова закатила лоцману пощечину.
— Как-то неловко наблюдать их наслаждение, кэп, — сообщил я капитану. — Кто знает, как далеко они зайдут.
— Оставим их, — согласился капитан, и мы двинулись по краю лагуны. Шагов через двадцать мы обнаружили новую голую женщину. Она мыла бутылки в океанском прибое.
— Ну? — спросил капитан. — А эту кому?
— Только не мне, — заметил я. — Мы сюда наслаждаться приехали, а не посуду сдавать.
— Когда же это бутылки мешали наслаждениям? — резонно спросила дама, игриво полуобернувшись к нам.
Этот ее внезапный полуоборот, океанская пена и блики портвейна на розовой коже внезапно пронзили меня, и я протянул уже руку, как вдруг старпом сказал:
— А мне эта баба так что вполне подходит. Милая, хозяйственная. Перемоем бутылки и сдавать понесем. А есть ли у вас, баба, хоть какие приемные пункты?
— Полно, — отвечала голая женщина, обнимая старпома, — да только сейчас все за тарой поехали.
— А почем бутылки идут? — спрашивал Пахомыч, впиваясь в ее уста.
— А по-разному, — отвечала она, обвивая плечи старшего помощника. — {67}Четвертинки — по десять, водочные — по двадцать, а от шампанского не принимают, гады!
— Э-хэ-хэ, — вздохнул капитан, обнимая меня за плечи и направляя немного в сторону от зарождающейся любви старпома. — Ну ладно, следующая женщина — твоя.
— Я готов уступить, сэр, — отвечал я. — Это ведь, простите, не очередь за билетами в Нальчик.
— Нет-нет, — улыбался Суер, — капитан сходит на берег последним. Даже на берег страсти. Так что следующая — твоя.
Я неожиданно разволновался.
Дело в том, что я опасался какого-нибудь монстра с шестью грудями или чего-нибудь в этом роде. А чего-нибудь в таком роде вполне могло появиться в этом благословенном краю. Тревожно оглядывался я, готовый каждую секунду ретироваться.
— Да, брат мой, — говорил капитан, — следующая — твоя. Но что-то не видно этой следующей. Постой, а что это шевелится там на скале?
На скале, к которой мы неумолимо приближались, сидели три женщины, голые, как какие-то гагары.
Глава XXXIV. ЗАДАЧА, РЕШЕННАЯ СЭРОМ
— О, господи! — вздохнул капитан, вытирая внезапный пот. — Проклятье! Следующая твоя, но какая из них следующая? С какого края считать?
— Не знаю, капитан, — тревожно шептал я, пожирая женщин глазами, — справа, наверно.
— Это почему же справа? Обычно считают слева.
— В разных странах по-разному, сэр, — терялся я, прерывисто дыша.
— Чтоб не спорить попусту, возьмем из средины, — сказал Суер-Выер. — Средняя твоя.
— Простите, капитан, — сказал я, — я не возражаю против средней, но в нашем споре есть и другое звено, которое мы недооценили.
— Что еще за звено? — раздражился внезапно Суер.
— Дело в том, — тянул я, — дело в том, что мы не только не знаем, какая следующая, но не знаем, и какая ваша. К тому же, имеется и лишняя.
— Лишних женщин, мой друг, не бывает, — сказал Суер-Выер. — Как и мужчин. Лишними бывают только люди. Впрочем, ты, как всегда, прав. Куда девать третью? Не Чугайле же ее везти?! Давай-ка глотнем джину.
Мы сели на песочек, глотнули джину и продолжили диалог. В голове моей от джину нечто прояснилось, и я держал между делом такую речь:
— Капитан! Вы сказали, что следующая — моя, а ваше слово в наших условиях, конечно — закон. Но вспомним, что такое женщина? Это, конечно, явление природы. Итак, у нас было первое явление — оно досталось лоцману, второе — старпому, и тут возникло третье, состоящее сразу из трех женщин. Так нельзя ли ваши слова истолковать так: следующее — твое. Тогда вопрос абсолютно решен. Все три — мои.
— Не слишком ли жирно? — строго спросил капитан. — Не зарывайся. Ты, конечно, на особом положении, на «Лавре» тебя уважают, но твоя — одна. Таковы условия игры... Это уж мне... как капитану, полагается две.
— Ну что же, сэр. Вы — капитан, вам и решать. Попрошу отделить мою долю от группы ее сотоварищей.
— Сейчас отделим, — сказал капитан, встал и, заложив руки за спину, принялся дотошно изучать женщин.
— Мда... — говорил он как бы про себя, — мда-с, задачка-с... Но с другой стороны, с другой-то стороны, я всегда был справедлив, поровну делил с экипажем все тяготы и невзгоды, поэтому, как благородный человек, я не могу позволить себе лишнего. Итак, одна — твоя, другая — моя, а третья — лишняя.
— Вряд ли, дорогой сэр, вряд ли кто из них захочет быть лишней. В конце концов, мы этим можем обидеть вполне достойную особу. Это не украсит нас с вами, сэр, нет, не украсит. Пойди-ка скажи прямо в лицо человеку: ты — лишний. Это же оскорбление!
— Тьфу! — плюнул капитан. — Какого черта мы не взяли боцмана? Ладно, будь по-твоему. Явление — так явление, следующее — твое! Забирай всех!
— Вот это гениально, сэр! — обрадовался я. — Я всегда говорил, что вы — гений. Девочки! Спускайтесь, тут найдется для вас кое-что вроде шерри-брэнди!
{68}— Ты неправильно оценил мой поступок. Ты назвал его гениальным — нет. Это — добрый, это — благородный поступок, но — не гениальный.
— В данной ситуации это вполне уместное преувеличение, сэр, — потупился я.
— А как бы хотелось найти гениальное решение! Да, теперь я понимаю Калия Оротата. Все вроде бы хорошо, но — не гениально. Прощай, друг, насладись как следует на свежем воздухе. Я пошел дальше.
— Постойте, сэр. Эти женщины — мои, но следующие — ваши. Я беспокоюсь, что ждет вас впереди, ведь там на какой-нибудь березе могут сидеть сразу пять или десять голых женщин. Это может печально кончиться.
— Как-нибудь разберусь.
Сэр Суер-Выер застегнул китель, стряхнул с рукавов пылинки и, откозыряв дамам по-капитански, направился прочь.
Он прошел пять шагов и вдруг круто развернулся.
— Идти мне дальше незачем, — с неожиданной строгостью во взоре сказал он. — За эти пять шагов я решил задачу: одна женщина — твоя, а две мои.
— Это — малогениально, сэр. Вы сами были за справедливость.
— Все гениально. Итак, послушай: одну женщину — тебе, другую — Суеру, а третью — Выеру.
Глава XXXV. БЕЗДНА НАСЛАЖДЕНИЙ
Благородные дамы внимательно слушали нас, хотя и не проронили ни слова. Когда капитан закончил, крайняя справа, отмеченная мной, повела плечом.
— Господа! — говорила она. — Мы выслушали ваши ученые доводы и насладились философским спором. Позвольте и нам принять участие в поучительной беседе.
— Просим, просим, — расшаркались мы с капитаном.
— Прежде всего позвольте представиться. Меня зовут — Фора, а это мои подруги — Фара и Фура. Итак, ваша первая задачка: какая женщина следующая? Так вот, следующая — я. Почему я? Очень просто: считать надо не слева и не справа, а с той стороны, с какой вы подошли. Вы подошли с моей стороны, следовательно, я и принадлежу этому достойному джентльмену, чья очередь, — и Фора состроила мне глазки. — К сожалению, он — не капитан, и это омрачает дело. Но с другой стороны, я хочу иметь цельного мужчину, и этот факт дело упрощает.
— Какая ерунда, — фыркнула Фара, сидящая посредине, — считать надо не с края, с которого они подошли, а с первого взора. Так вот, этот джентльмен-некапитан первым обратил свой взор именно ко мне. Я прекрасно заметила, с каким наслаждением глаза его бродили по моему прекрасному телу.
Выслушивая Фару, я невольно яростно краснел, никак не ожидая, что из-за меня разгорится сыр-бор. Нет, этот сыр-бор был мне бесконечно душевно близок, но капитан... я видел, что он мрачнеет и...
— Что за чушь? — сказала Фора. — И как ты докажешь, что он бросил свой взор именно на тебя? Если хочешь знать, у него взор всеобщий, во всяком случае очень обширный. Он охватывает всех женщин и страстно скользит по ним. И я всею кожей чувствовала это скольжение.
— Интересно, а меня-то здесь будут слушать? — раздраженно сказала Фура. — Кто считает с краю? Кто считает с первого взгляда? Считать надо не с краю, а с первого поцелуя. Вот когда господин вопьется кому-нибудь из нас в сахарные уста, тут и начнется настоящий счет.
— Это верно! — неожиданно воскликнула Фора.
Она легко соскочила со скалы, подбежала ко мне и сказала:
— Впивайся скорей!
И я, конечно, незамедлительно впился.
— Так и знала, что Фора обскачет нас на повороте, — сказала Фара с печалью — видно, я ей сильно понравился. — Ладно, придется покориться судьбе. Ну что ж, я готова служить Суеру, тем более, что это первая половина капитана. Суер, я — твоя!
— Ну а я не собираюсь служить второй половине сомнительной фамилии, — сказала Фура. — Нет, Выер, я — не твоя! Если б мне досталась первая половина, то есть Суер, я бы еще подумала, а уж Выер — нет, увольте, я лучше пойду собирать опенки. Пусть Суер наслаждается с Фарой, а Выер болтается без дела!
— Как же так! — воскликнула Фора. — Как это мы можем позволить Выеру болтаться без дела? Какой-никакой, а все-таки Выер. Чего в нем такого уж пло{69}хого? Ну, Выер, ну и что? Не так уж мы богаты, чтоб разбрасываться Выерами налево и направо.
— А мне Суера достаточно, — сказала Фара, — а до Выера и дела нет. Кому нужен — пускай берет.
— Отдаться Выеру! Какой кошмар! — сказала Фура. — Нет, нет! Увольте!
— Перестань, — сказала Фора. — Вчера еще ныла: мне бы хоть какого Выера... Мечта сбылась! Забирай Выера и не мешай нашим наслаждениям!
Тут Фора обняла меня и трепетно увлекла в дюны.
Фара кинулась к Суеру, а Фура топталась на месте, не зная, с какого бока к Выеру приступить. Но тут Выер, не будь дурак, сам приступил к ней.
А нам с Форой было уже не до них.
Адские наслаждения — вот что стало предметом нашего неусыпного внимания и заботы.
Мы падали в бездну наслаждений и старались зту бездну углубить, расширить и благоустроить. В конце концов нам удалось создать очень и очень приличную бездну наслаждений, и только к закату мы начали из нее потихоньку выбираться. Выбравшись из бездны, мы вернулись на берег океана. Там уже сидели Фара с Суером и Выер с Фурой.
Фура с Выером, к счастью, вполне примирились, непрерывно чмокались и строили друг другу куры.
— А Выер был не так уж плох, — смеялась Фура, раскладывая на салфетке салаты и копчености. — Еще и неизвестно, какая половина капитана интереснее!
— Знаешь, милый, — сказала Фора, обнимая меня, — это очень правильно, что вы не пошли дальше и остались с нами. Там, за скалами, живет голая женщина с шестью грудями. Ее звать Гортензия. Очень опасное существо.
Глава XXXVI. ГОРТЕНЗИЯ
Утомленные салатом и копченостями, подруги наши скоро задремали, и мы с капитаном отползли от салфетки в сторонку и, прячась за кустами челесты, постепенно ретировались.
— Послушайте, кэп, — сказал я, — там, за скалами, живет женщина с шестью грудями. Таким первопроходцам, как мы с вами, даже неловко пройти мимо этого феномена. Надо бы вернуться, посмотреть, в чем там дело.
— А ног-то у нее сколько?
— Вроде бы две.
— Ну ладно, давай поглядим на нее хоть с полчасика.
Обогнув скалы, которые, в основном, состояли из обломков моржового глаза, мы вышли на берег лимонного лимана.
В лучах заката к нам спиной сидела на берегу голая женщина.
— Добрый вечер, мэм! — покашлял у нее за спиной Суер.
— Добрый вечер, сэр, — ответила женщина, не оборачиваясь.
— Ну что? — шепнул Суер. — Что ты скажешь?
— Пока ничего не могу сказать. Не пойму, сколько у нее грудей. Не зайти ли сбоку?
— Неудобно, — шептал капитан, — сама повернется.
— А вообще-то приятный вечер, мэм, — галантно продолжал сэр Суер-Выер. — Не хотите ли развлечься? Выпить шерри или сыграть партию в серсо?
— Мне недосуг, — ответила женщина.
— Ну хоть повернитесь к нам, — предложил капитан.
— А это зачем? Вы что, хотите посчитать, сколько у меня грудей?
— О что вы, мэм, мы люди благовоспитанные...
— А если не хотите считать, что же мне поворачиваться?
Суер растерялся.
— Черт возьми, — шепнул он, — сидит, как монумент. По количеству спины, там действительно должно быть полно грудей. Шесть уместится точно.
Я все вытягивал шею, чтоб посчитать, но ничего не получалось.
— Ничего не вижу, сэр, — шептал я. — Не то что шести, и двух-то не видать.
Женщина смотрела в океан. Полированного теплого мрамора были ее плавные плечи, крутые локти и плотная спина. Тяжелые волосы, ниспадающие на квадраты лопаток, не дрогнули под порывами ветерка. Ствол позвоночника был прям, как пальма.
— Хорошо сидит, — шепнул Суер. — Мощно!.. Но страшно подумать, что будет дальше?!, А вдруг обернется, и придется считать груди!.. Кошмар!
{70}— Ничего страшного, сэр, — потихоньку успокаивал я капитана. — Шесть — это не так уж много.
— Госпожа Гортензия! — сказал Суер. — Мы много слышали о вас и по глупости захотели посмотреть. Простите, мы не хотели вас обидеть.
Гортензия медленно повернула голову вправо.
— Я — привыкла, — внятно сказала она.
— Извините, мэм. К чему вы привыкли, не понимаю?
— Сижу здесь с шестью грудями, а всякие идиоты за спиной ходят.
И она снова отвернулась к пространству океана.
Мы с капитаном совершенно поникли.
Выбравшись из бездны наслаждений, мы пока соображали туго и не могли осознать сразу той силы и вечности, которая сидела к нам спиной. Мы-то думали, что шесть грудей — это так просто — тяп-ляп! — можно выпить шерри, хохотать и тунеядствовать, а тут — литая бронза, скала, гранит, монумент, гора, вселенная.
— Я бы повернулась к вам, — сказала вдруг Гортензия, — но мне не хочется менять позу. Вы понимаете? Некоторые люди, имеющие позу, охотно ее меняют, а с потерей позы теряют и лицо.
— Госпожа, — сказал Суер, — поза есть поза. Но важна суть дела. Позвольте один вопрос. Вот вы имеете шесть грудей, но на все это богатство имеется хоть один младенец?
— Сээээр, — сказала она, — а вы можете представить себе младенца, вскормленного шестью грудями?
— Нет, — чистосердечно признался капитан.
— А между тем такой младенец имеется.
— О боже! Вскормленный шестью грудями! Богатырь! Как его имя?
— Ю.
— Ю? Всего одна буква! Ю! Какого же он пола?
— Уважаемый сэр, подумайте-ка, какого рода буква Ю?
— Женского, — немедленно ответил Суер.
— А мне кажется, мужского, — встрял, наконец, я.
— Почему же это? — раздраженно спросил Суер. — Всем ясно, что все гласные — женского рода, а согласные — мужского.
— Извините, сэр, конечно, вы — капитан, вам виднее, но я придерживаюсь совсем другого мнения. Я не стану сейчас толковать о согласных, это, в сущности, должно быть многотомное исследование, но насчет гласных позвольте высказаться немедленно. Так вот я считаю, что каждая гласная имеет свой род:
А — женского рода,
О — среднего,
Е — женского,
Ё — среднего,
И — женского,
Й — мужского,
Ы — среднего, сильно склоняющегося к мужскому,
У — женского с намеком на средний,
Э — среднего,
Ю — мужского
и
Я — женского.
— Все это высказано убедительно, — сказал Суер-Выер, — но и как-то странно. Похоже или на белиберду, или на научное открытие, правда, подсознательное. Но насчет буквы, или, верней, звука «Ю» я совершенно не согласен. «Ю» — как нежно, как женственно звучит.
— Нежно, возможно, — завелся вдруг я, — но ведь и мужественное может звучать нежно, черт подери! Ю — это сказано. Даже рисунок, даже написание буквы «Ю» выглядит чрезвычайно мужественно. Там ведь есть палка и кружочек, причем они соединены черточкой.
— Ну и что?
— Да как же так, сэр? Палка и кружочек, вы вдумайтесь! Палка и кружочек, да еще они соединены черточкой! Это же целый мир, сэр! Это вселенная, это намек на продолжение рода и вечность всего сущего!
Гортензия неожиданно засмеялась.
— Возможно, вы и доплывете до острова истины, возможно... А теперь приготовьтесь! Мне пришла блажь изменить позу!..
{71}— Постойте, мэм, не беспокойтесь, — сказал вдруг торопливо сэр Суер-Выер. — Не надо, не надо, мы и так верим, а видеть не обязательно...
— Да, да, госпожа, — поддержал я капитана, — умоляю вас... Расскажите лучше, как найти младенца по имени Ю, а позу оставьте...
— Есть такой остров Цветущих младенцев, с трудом его туда устроила... а позу придется менять, придется. Приготовьтесь же...
Медленно-медленно шевельнулось ее плечо, локоть пошел в сторону, явилась одна грудь, другая, третья... и мы с капитаном, ослепленные, пали на песок.
Впоследствии сэр Суер-Выер уверял, что наблюдал семь грудей, я же, досчитав до пяти, потерял сознание.
Глава XXXVII. АРАГВА И КУРА
А на новом острове, открываемом нами, росли стройные сосны. Над ними клубился сосновый воздух.
— Сосновый воздух — полезная вещь, — сказал Суер-Выер.
И мы решили прогуляться под соснами, по песочку, в зарослях вереска. Спустили шлюпку, открыли остров и начали прогуливаться, нюхая воздух.
— Под соснами всегда хороший воздух, — говорил Суер.
— Много фетонцидов, — влепил вдруг Пахомыч.
— Чего?
— А что?
— Чего много?
— Гм... извините, сэр. Много воздушных витаминов, не так ли?
— Отличный воздух, — поддержал я старпома, — приятно нюхается.
— Настоящий нюхательный воздух, — поддержал и лоцман Кацман.
Так мы гуляли, так болтали, и вдруг я почувствовал что-то неладное. Капитан почему-то молчал, а я снова остро почувствовал... нет, невозможно объяснить... впрочем, ладно. Я почувствовал, что сливаюсь с капитаном в одно лицо.
Повторяю: в одно лицо. Это было совершенно неожиданно.
Я даже затормозил, ухватился руками за сосну, но лицо Суера влекло меня неудержимо, и я совершенно против воли стал с ним сливаться. К изумлению, лицо капитана совершенно не возражало. Оно сливалось с моим просто и естественно, как сливаются струи Арагвы и Куры. Все же я чувствовал себя Арагвой и тормозил, тормозил и даже оглянулся.
Боже мой! Лоцман и Пахомыч уже слились в одно лицо! Отмечу, что, слившись в одно лицо, они костыляли каждый на своих двоих!
Я хотел поподробней осмотреть их, как вдруг капитан гаркнул мне в ухо:
— Ну ты что? Будешь сливаться в одно лицо или нет?
— Кэп, — бормотал я. — Капитансэр! Я чувствую, что сливаюсь с вами в одно лицо. И я не против, поверьте, но я это испытываю впервые в жизни и не знаю, как себя вести.
— Что мы с тобой? Ерунда! — припечатал Суер. — Целые нации сливаются порой в одно лицо и даже разные народы, потом-то попробуй-ка разлей. А ты меня неплохо знаешь, надеюсь, доверяешь и запросто можешь сливаться.
— Кэп, — оправдывался я, хватаясь за сосну, — нации — хрен с ними, давайте хоть мы удержимся!
— Невозможно, — сказал капитан, — отпусти сосну. Будем иметь одно лицо на двоих — не так уж страшно.
В голове моей помутилось, я потерял на миг сознание... и слился с капитаном в одно лицо.
— Скажи спасибо, что не с боцманом Чугайло, — сказало бывшему мне наше общее теперь лицо.
Слившиеся в одно лицо Пахомыч и лоцман смотрели на нас с превеликим изумлением. Тут наше лицо достало зеркало, не помню уж, из моего или капитанского кармана, и стало себя разглядывать.
Ничего вообще-то, вполне терпимо, я ожидал худшего. И еще появилось странное ощущение, что мы хоть и слились в одно лицо, но все-таки в нем присутствовал и какой-то бывший я.
Некоторое время наше лицо с капитаном и ихнее лицо Кацмана и старпома бесцельно бродили под соснами. Потом ихнее лицо разложило для чего-то костер из сосновых шишек. Это нашему лицу не понравилось, и оно стало затаптывать костер четырьмя ногами. Ихнее лицо разозлилось и ударило в наше четырьмя кулаками. Наше в ответ дало им в глаз.
{72}— Это все бывало не раз, — сказало, наконец, наше лицо ихнему. — Слившиеся в одно лицо любят наносить взаимные удары. Но в нашем лице есть признаки капитана. Поэтому слушай нашу команду: немедленно в шлюпку!
Старпомолоцман или, так сказать, Пахомнейший Кацман, то есть ихнее лицо, подчинилось и направилось к шлюпке. За ним двинулось и наше лицо.
В шлюпке мы сумбурно хватались за какие-то весла, что-то гребли. Неожиданно нашему лицу пришла в голову важная мысль.
— Слившееся надо разлить, — сказало наше лицо, а ихнее заулыбалось и достало из-под банки спиртовую бутыль.
Лица разлили по одной. Выпили. И тут явление произошло!
Все мы, бывшие четверо, внезапно стали неудержимо сливаться в одно общее лицо на четверых. Как оно выглядело со стороны, я не видел, но соображал, что получается нечто мутное и большое. Эдакая кварта с ушами во все стороны.
И тут бывший я, который еще теплился в тайниках общего лица, понял, что плаванье кончилось и мы никогда не доберемся до «Лавра Георгиевича», течение отнесет нас от фрегата, от острова и от самих себя.
В кварте нашей рыхлой что-то захрипело, закашляло, как сквозь вату пробился голос бывшего сэра Суера-Выера:
— Приказываю закусить! Немедленно закусить!
— Мне сала, сала, — запищал где-то в молочной мгле бывший лоцман.
— Огручика малосоленького, — жалобно провыл норд-вест старпома. Соленая волна ахнула в четверное лицо, и разница в закуске сделала свое дело. Закусывающие лица потихонечку расползлись в стороны, как медузы, зазевали, и, чихнув, обрели прежние границы.
Протерев глаза, я понял, что мы не так уж далеко отплыли в открытый океан. Совсем рядом с нами покачивался на волнах остров слияния в одно лицо и твердо, как скала, стоял в океане «Лавр».
Когда мы подплыли к «Лавру», никаких признаков наших слияний матросы не заметили. Они только болтали, что у капитана флюс, а это были следы моего нордического подбородка.
Странное последствие мучало меня несколько лет. Мне все снилось, что я — Арагва.
Глава XXXVIII. ТРЕПЕТ*
* Главу «Трепет» с трепетом посвящаю журналу «Знамя», в котором вижу
не только
друга, но и брата-синонима некоторых персонажей.
В тяжелых плаваньях, в дальних странствиях всякое бывает: голод и мор, жажда пресной воды, миллюзии и фураж. Но, поверьте, никто не ожидал, что на семьсот сорок второй день плаванья механик Семенов вообразит себя флагом.
— Я хочу развеваться! — кричал он, взбираясь на мачту. — Я должен трепетать на ветру, осеняя вас с самых высоких позиций.
Мы терпеливо ждали, когда же он долезет до флагового места. И вот он долез, сбросил на палубу наш старый добрый флаг и принялся над нами развеваться, всячески называя себя подлинным флагом.
— Ладно, — сказал капитан, — в конце концов мы можем сменить наш старый добрый флаг на механика Семенова. Пусть Семенов развевается, пусть будет флагом, но кто же, черт возьми, будет у нас механиком?
Некоторое время мы надеялись, что Семенову надоест трепетать на ветру, но ему не надоедало.
— В деле трепетанья я — неутомим, — кричал он сверху.
— Хрен с ним, пускай трепещет, — сказал Суер. — Уберите в рундук наш старый добрый флаг.
Мы убрали в рундук наш старый добрый флаг и занялись обычными судовыми трудами: развязывали морские узлы, варили в котлах моллюсков.
Через некоторое время мы и позабыли, что у нас вместо флага механик Семенов.
— Эй вы! — кричал он сверху. — Поглядите-ка на меня! Смотрите, как я здорово на ветру трепещу.
Но мы не обращали внимания, насмотрелись уже на его дерганья и ужимки.
— Вы должны восхищаться своим новым флагом, — орал Семенов. — А то ползаете, как улитки!
— Давайте повосхищаемся немного, — сказал Хренов, дружок Семенова, — жалко все-таки его, дурака.
{73}— Повосхищайтесь, повосхищайтесь, — по-отечески разрешил нам Суер-Выер.
Ну, мы бросили швабры и моллюсков и покричали наверх:
— О! О! Какой у нас флаг! Как мы восхищаемся! Мы в полном восторге! Посылаем наверх свое восхищение!
Семенов смеялся от счастья как дитя и трепетал, трепетал.
Вскорости пробили склянки — это стюард Мак-Кингсли призывал нас к полдневной чарке спирта. Обычно стклянка со спиртом вместе с чарками выносилась на палубу.
— Знаете что, — сказал Суер, — давайте на этот раз выпьем наши чарки в кают-компании. Неудобно, знаете, пить спирт под нашим новым флагом.
— Почему же, сэр? — спрашивали матросы.
— Боюсь, что флагу захочется выпить, а это может нарушить его душевное равновесие. Да и трепетать выпимши труднее.
— А по-моему, легче, сэр, — сказал вдруг матрос Петров-Лодкин.
— А вы что, выпимши много трепетали?
Флаг наш, то есть механик Семенов, перестал в это время трепетать и внимательнейшим образом прислушивался к разговору.
— Наш новый флаг, как вы сами замечаете, неплохо трепещет и не похмеляясь, — сказал Суер. — Так что спирт может ему повредить. Кроме того, я настаиваю на соблюдении нравственной чистоты нашего флага. А то сегодня выпьет, а завтра что?
— Да, да, вы правы, сэр, — воскликнули мы, — не будем нарушать его душевное и нравственное состояние. Флаг есть флаг, давайте спустимся скорее в кают-компанию, тем более, что там имеются в вазах хрустящие сухарики.
И мы спустились в кают-компанию, выпили по чарке с сухариками, и тут раздался стук в дверь.
— Ей-богу! Это механик! — вскричали некоторые из нас.
— Стюард, отоприте! — велел капитан.
— Да ну его, сэр! Пускай трепещет.
— Впустите, впустите его...
Стюард отложил засов, и в кают-компанию, шевелясь, трепеща и вздрагивая, внезапно вошел наш старый добрый флаг. К изумлению, он был в кирзовых сапогах и в телогрейке, очевидно, почерпнутых в рундуке.
— Попрошу спирту, сэр, — сказал он. — Я столько дней трепетал вместо механика, так промерз под ветрами, овевающими нашего «Лавра», что чарка полагается мне по праву.
— Впервые вижу, чтоб флаги пили спирт, — отчеканил Суер. — Но что поделаешь? Налейте ему,
Наш старый добрый флаг тяпнул рюмку-чарку, захрустнул сухариком и вернулся обратно в рундук.
Ну а механик Семенов трепетал над нами еще несколько дней, пока два дурашливых альбатроса не сшибли его с мачты. Падение его было поучительным для многих. Раскидывая вихры, хухры и штормовки, механик вороном пролетел над полубаком, свистнул в кулак и рухнул как раз в машинное отделение, где немедленно и приступил к исполнению своих прямых обязанностей.
Глава XXXIX. ВЫРАЩИВАНИЕ САXАРНОЙ СВЕКЛЫ
Необычной какой-то неокеанической красоты, высоты, изящной длины открылся нам вдруг остров, стоящий посреди океана.
Казалось, он — вулканического происхождения, потом казалось — нет. И все же что-то вулканическое угадывалось в его мощных очертаниях.
Когда мы подплыли поближе, то с удивлением обнаружили, что остров весь уставлен людьми. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и, казалось, втиснуться между ними не было никакой возможности.
Подведя «Лавра» поближе, старпом крикнул в мегафон:
— Кто вы?
Островитяне обрадовались нашему неожиданному любопытству и дружно прокричали:
— Мы — посланные на ....
— Ничего не понимаю, — сказал Суер, — подойдем к острову с зюйда. «Лавра» привели к другому берегу, и старпом снова проревел в трубу:
— Кто вы?
— Мы — посланные на ... , — дружно ответствовали островитяне.
— Приходится констатировать, — пожал плечами Суер, — что это, действительно, люди, посланные на ....
{74}— А за что вас послали? — крикнул старпом.
— А по разным причинам, — дружелюбно поясняли наши островитяне.
— Ну и что вы теперь делаете?
— А ничего особенного. Стоим на этом каменном ..ю посреди океана. Иногда хлебопашествуем. Бортничаем. Выращиваем сахарную свеклу.
— Но позвольте, — развивал беседу сэр Суер-Выер, — признаться, меня самого не раз посылали на ... . Но что-то я не вижу среди вас, так сказать, себя. Я тут, на корабле, а вы — на острове.
— О, что вы, капитан, — ответствовали посланцы, — где-то между нами, конечно, имеетесь не только вы, но и вся ваша команда.
— Эй, ребята, — крикнул кто-то из посланцев, — нет ли среди нас Суера-Выера или кого-нибудь из команды этого фрегата?
К нашему изумлению, островитяне слегка пораздвинулись и к берегу протиснулись семь или восемь Суеров-Выеров в капитанских фуражках.
За Суерами продирались Кацманы, а за ними пятнадцать штук меня. Наши двойники замахали нам пилотками, восклицая:
— Да-да, это мы... А мы — это вы, посланные на ... . Вас посылают, а мы тут отдуваемся, сахарную свеклу выращиваем.
За Суером, за лоцманом, за мною стала продираться к берегу пожалуй что вся наша команда.
— Наши приехали, наши, — гомонили они. — Хоть поглядеть на братьев.
Были тут, конечно, и многочисленные Хреновы, и многократные Семеновы, но особенно много оказалось боцманов Чугайло. Он измерялся сотнями. Это неожиданно понравилось капитану.
— Позовите боцмана, — приказал он.
Чугайло явился на палубу в каких-то полупортах, в одной подтяжке, крайне раздраженный тем, что его разбудили.
— В чем дело, кэп? — ревел он. — Чья вахта?
— А дело в том, господин Чугайло, что я хотел бы послать вас на ... .
И тут Суер, недолго думая, взял да и послал. И что же вы думаете? Среди островитян немедленно объявился новенький боцман в полупортах и подтяжке.
А старый Чугайло, хоть и посланный, остался стоять на борту. Тут все наперебой стали посылать боцмана на ..., и на острове становилось все больше и больше боцманов.
Чугайло терпел-терпел, да вдруг взял да и всех нас послал на ..., и мы тут же очутились на берегу, хотя и оставались на борту.
Тут на нас разобиделись островитяне.
— И так места нет, — бубнили они, — а вы друг друга все посылаете и посылаете. А ведь вы не одни на свете. Вся планета, а в особенности Московская область, то и дело посылает кого-нибудь на ... . Если уж вы так хотите, то пошлите нам кого-нибудь из сановников или руководителей предприятий.
Ну, мы не стали чиниться, и дружно послали пару сановников и с десяток руководителей другого ранга.
Островитяне охотно потеснились, и наши посланцы дружно выстроились в их рядах. Надо сказать, что они тут же стали демократичны, жали другим посланным руки и всячески братались.
— С посланными все ясно, — сказал капитан, — но интересует еще и судьба пославших. Неужели для них особый остров?
— Что вы, что вы, капитан. Пославшие тоже тут, среди нас. Ведь любой посланный тут же и пославшего посылает. Так что у нас большое равенство. Настоящая демократия, сэр!
— Ах, — сказал Суер, — надо отплывать, но все-таки напоследок я очень хочу послать на ... такого-то товарища. Разрешите, братцы!
Мы дружно разрешили, и капитан послал.
Я крепился-крепился, а потом последовал примеру нашего великого капитана, взял да и послал одного там на ... . Послал, но тут же пожалел, такой уж у меня характер. Но отозвать посланного обратно, как вы сами понимаете, было уже невозможно.
Глава XL—XLI. ВАМПИР
— Ты знаешь, чего мне кажется? — сказал как-то Суер-Выер. — Мне кажется, что у нас на борту завелся энергетический вампир.
— Помилуй Бог, что вы говорите, сэр?
{75}— Чувствую, что кто-то сосет энергию. Сосет и сосет. Ты не догадываешься, кто это?
— Не Хренов ли?
— Да нет, — поморщился капитан. — Хренов, конечно, вампир, но вампир интеллектуальный. Сосет интеллект своими идиотскими выходками. Здесь замешан кто-то другой.
— Кто же это, сэр?
— Конечно — Кацман.
— Помилуйте, сэр. Как только еврей — так обязательно вампир энергетический. Кацман — порядочный человек.
Я оглядел палубу. Лоцман стоял на корме и пил свой утренний пиво.
— Пьет пиво, сэр, — доложил я. — Правда, энергично.
— Пиво и энергетика вполне совместимы, — сказал Суер.
— Теперь и я вспоминаю, сэр, — сказал я. — Утром встану, бывало, полон энергии, выпью коньячку, закушу минтаем — энергии до хрена! Но только подойду к лоцману — бац! — энергия начинает падать. Падает и падает, приходится снова коньячку. Мне и в голову не приходило, что это все лоцман.
— Давай-ка спросим у Пахомыча, что он думает на этот счет, — сказал капитан. — Эй, старпом! Прошу вас, оставьте волонтеров и подойдите к нам, а волонтеры пусть пока валяются, после приберем.
— В чем дело, сэр? — спросил Пахомыч, недовольный, что его оторвали от связки волонтеров, которая каталась по палубе, волнуемая качкой.
— Важный вопрос, старпом! Скажите-ка, как у вас дела с энергией?
— Все в порядке, сэр, — ответил старательный Пахомыч.
— Не чувствуете ли вы, что кто-то ее пьет?
— Никак нет, сэр, не чувствую! — прокричал Пахомыч и снова вернулся к связке волонтеров, которая в этот момент встала на дыбы, торча во все стороны.
— Ясное дело, — сказал Суер, — кому нужна его дубовая энергия? Да она просто-напросто невкусна. Нет уж, пить так пить! Нервную, тонкую, умную энергию — вот что любят энергетические вампиры! Старпом! — крикнул капитан. — Да бросьте вы к чертовой матери этих волонтеров! Соберите всех в кают-компании, пригласите также Хренова и Семенова.
Через минуту мы все собрались в кают-компании и расселись вокруг овального стола под опахалами.
Стюард Мак-Кингсли наполнил наши кружала отличной манилой.
— Лоцману попрошу не наливать, — неожиданно приказал капитан.
— Что такое, кэп? — удивился Кацман.
— А вы сами не догадываетесь?
— Кэп! Кэп! Сэр! — заволновался лоцман. — Ничего не понимаю.
— Зачем вам манила?! Вы ведь пьете совсем другое!
— Сэр! Клянусь! Сегодня только мой утренний пиво.
— Перестаньте притворяться, лоцман! Вы пьете энергию.
Лоцман нахмурился, осмотрел овальный стол и наши опахала.
— Вот вы скажите нам, Хренов, — продолжал капитан, — пил у вас лоцман энергию или не пил?
— Конечно, пил, — отвечал мичман. — А я думаю, ладно, пускай себе пьет, не жалко. А что, разве это не полагается, сэр? Если нет — вы прикажите, я ему больше не дам ни капельки. Энергия моя принадлежит только мне, нашей общей идее и, конечно, моему капитану.
— А у вас, Семенов, пил он или нет?
— Немного, сэр. Он, бывало, у Хренова напьется и до меня уже доходит полностью наполненный. Да к тому же у меня все вахты, вахты...
— Вот видите, Кацман. Два твердых свидетеля. Так что не юлите, признавайтесь: пьете энергию или нет?
Лоцман печально покраснел, стукнул кулаком по столу и надвинул себе на лоб опахало. Он молчал как туча.
— Извините, сэр, — сказал старпом, — а ведь у нас на борту есть хороший специалист по вампирам.
— Кто это? — вздрогнул капитан.
— Как кто? Матрос Вампиров.
— Тьфу ты черт! — плюнул капитан. — Зовите его скорей!
Оказавшись в кают-компании, матрос растерялся. Он стоял навытяжку до тех пор, пока не хлопнул кружала манилы.
{76}— Матрос! — строго сказал капитан. — Осмотрите всех внимательно и скажите, кто тут из нас вампир. Подчеркиваю — энергетический!
Вампиров застеснялся. Он мялся и бубнил себе под нос:
— Служу рачительно... пекчусь... заботюсь... Своего дедушку никогда не видел... Папа работал в милиции... его реабилитировали... пили больше первач... гюйсы задраил в точности... А если до вампира, так это лоцман Кацман.
Лоцман мелко задрожал, скинул опахало и припер его к стенке.
— Капитан, — сказал он, — прикажите налить мне манилы, а то, клянусь, сейчас же выпью всю вашу энергию. Для меня это пара пустяков!
Капитан кивнул, и Мак-Кингсли нацедил лоцману нашего любимого свинцового напитка.
— Ваше здоровье, джентльмены, — сказал лоцман, опрокидывая кружало. — Сэр, вы спрашиваете, пью ли я энергию? Приходится согласиться: пью!
— Ай-яй-яй! — неожиданно расстроился Пахомычч — Лоцман-лоцман, старый друг — и вдруг оказался энергетический клоп! Блоха! Комар!
— Овод! — произнес лоцман.
Он оглядел всех исподлобья и членораздельно пояснил:
— Пил, пью и буду пить!
— А мы не дадим! — дружно заорали Хренов и Семенов.
— Дадите как миленькие! А вы что хотите, кэп, чтоб я проводил «Лавра Георгиевича» через рифы и мели, психологические коридоры, кораллы прозы, треугольники деепричастных оборотов и при этом не пил энергию? Только на одном пиве? В то время, когда на борту имеются лица, пьющие все подряд: пиво, водку, манилу, энергию, суть души, армянский коньяк, интеллект, лошадиную мочу, слезы женщин и детей, кровь поэтов, казеиновый клей, политуру, нектар, жизненные силы! Подумать только! Немножечко энергии Хренова! Какое преступление! Вот уж, простите, кэп, действительно — хреновина! Нет, капитан! Я пил энергию и буду пить! Я должен довести нашего «Лавра» до правильного берега.
Лоцман вытер лоб, махнул манилы и в ярости сломал опахало пополам.
— Сэр, — заметил я, — лоцман прав.
Суер-Выер задумался, взял сломанное лоцманом опахало и сложил его на составные части. Потом он подошел к лоцману и поцеловал его.
— Пей, — сказал капитан. — Пей, вампир, нашу энергию. Но доведи «Лавра» до правильного берега, до острова Истины.
И Суер жестом распустил собрание. С тех пор лоцман Кацман свободно бродил по фрегату и пил нашу энергию как хотел.
Глава XLII—XLVII. ПОЖАР ЛЮБВИ*
* В этом месте произошло чудовищное прозотрясение
и усекновение главы «Иоанн
Грозный убивает своего сына».
— В конце концов, капитан, это начинает утомлять, — говорил старпом, когда мы все собрались на послеполуденный спиричуэлс. — Наше плаванье носит бесцельный характер. Мы открыли много островов, но это чистая география с этнографическим оттенком. Мы не обогатились ни на копейку. А ведь вы обещали, что нас ждет богатство.
— Видимо, дорогой сэр имел в виду нравственное богатство, — с прохладной ехидцей сказал Кацман, — богатство душевного уклада.
— Но я и нравственно ни хрена не обогатился! — воскликнул Пахомыч. — А взять экипаж! К примеру, Вампирова или Хренова! А Чугайло? Вот уж где нравственность ниже румпеля.
— Извините, старпом, — сказал капитан, — давайте разберемся, чего бы вам все-таки хотелось: богатства душевной жизни или чистогана? Что вам надо?
— Драгоценных камней, — ответствовал Пахомыч. — Я хочу ими украсить свой брачный чертог.
— А у вас что, есть такой чертог?
— Нет, пока нету, но... в принципе...
— Вряд ли, — сказал капитан, — вряд ли кто из вас может рассчитывать на подобные чертоги и в принципе, но... что ж, украшение чертогов — дело благородное. Как только увидим остров с драгоценными камнями — бросим якорь.
После этого достопримечательного разговора мы долго бороздили океан, набрели раз на остров халцедонов, которые обстреляли нас из малокалиберных винтовок, но больше ничего такого мы среди волн не замечали.
{77}Наконец, открылся небольшой островок, который сплошь состоял из камней различной величины.
— Драгоценные они или нет — неизвестно, — сказал Суер, — но давайте проверим.
Черные и красные камни-голыши целиком заполняли остров. Все они были округлой формы и напоминали продолговатые яйца. Казалось, груда продолговатых яиц лежит среди океанских волн. Были там камни величиной с дом, были с колесо, с глаз кашалота. Камни образовывали некую пирамиду, и на самой вершине ее стояли два особенно крупных камня — черный и красный.
— Ничего драгоценного в этих камнях нету, — говорил лоцман, выпрыгивая из шлюпки на берег. — Это просто гранит.
— Явный лабродор, — сказал и старпом, приподнимая один небольшой камень. — Просто лабродор, ничего ценного.
Он оглядел камень и отбросил в сторону. Послышалось шипенье.
— Змея! — подпрыгнул Кацман.
Шипящий по-змеиному, но как-то с надрывом и контральто, от камней поднимался дым. И я заметил, что брошенный старпомом кусок лабродорита слегка подпрыгивает, лежа на другом камне красновато-розового оттенка.
Дым усиливался, подпрыгивание превратилось в яростные скачки, мелькнули язычки пламени, ракетные вспышки искр, пламя дрожало и металось и вдруг разделилось на две ровные половины. Два языка пламени поднимались от камней все выше, и вот из них образовались две фигуры — мужская и женская.
Они были сделаны из огня! Как же яростно, как пламенно они обнимались, целовались, оглаживали друг друга! Жар! Жар! Пожар любви охватил остров! Они заходили все дальше-дальше, огненные руки, бедра, плечи играли, пульсировали, перенакалялись...
— Кхе-кхе... — кашлянул капитан.
Огненные любовники на миг приостановили свои поцелуи.
— Кто-то, кажется, кашляет, — сказал огненный мужчина.
— Да нет, милый, тебе показалось, — женщина страстно прильнула к нему.
Капитан кашлянул сильнее.
— Извините, — сказал огненный мужчина, заприметив, наконец, наши фигуры, — это вы кашляете, чтоб оторвать нас от любовных игр?
— Вот именно, — подтвердил Суер. — Всего один вопрос: вы камни, люди или огонь?
— И то, и другое, и третье, — отвечал огненный. — Весь наш остров наполнен камнями разного рода. Я — камень мужской, а вот она — женщина. Кстати, как тебя зовут, дорогая?
— Анит, — улыбнулась огненная женщина. — Мы давно мечтали друг о друге, но никак не могли воссоединиться. Ведь камни не двигаются или двигаются в очень редких случаях, к примеру, при извержении вулкана. То-то тогда бывает любовь!
— Это я вас воссоединил! — похвастался старпом. — А что, приятель, нет ли у вас каких драгоценностей или бриллиантов?
— Знаете что, — сказал огненный мужчина, — нам с вами болтать некогда. Ведь мы сгораем, у нас нет времени. Так что мы делом займемся.
И они снова слились в любовной и огненной игре.
Обнимаясь, обвиваясь, обволакиваясь, они поднимались все выше и выше в небо, удлинялись их руки и ноги, дым и пар, как белые и черные нимбусы, стоял у них над общей теперь головой, раздался крик боли и счастья, взрыв и... они растаяли, вместе с остатками дыма улетели в небеса. Только дух опаленных кедровых шишек расстелился над островом. Потрясенные картиной огненной эротики, мы долго сидели, задумавшись над тщетой.
— Попробуем еще разок, — сказал старпом.
Он взял в руки очередной камень и шепнул ему на ухо:
— Слушай, камень, внимательно! Сейчас я тебя брошу, и как только ты воспламенишься, немедленнно скажи мне: есть на острове драгоценности или бриллианты? Или нет? А дальше дуй свою любовь.
Старпом кинул камень в груду других камней.
Брошенный долго скакал, отталкиваясь боками то от одного камня, то от другого. Вдруг приник к какому-то, и снова явились брызги искр, дым, шипенье, пламя и в пламени новые огненные мужчина и женщина.
Как мы ни кашляли, как ни кричали, эти двое не обращали на нас внимания, {78}они сгорали, обнимая друг друга, уходили все выше в небо, в нимбы, в бездну, и, наконец, откуда-то из заподнебесья раздался слабый крик:
— Бриллиантов нету!
— А где они? А где? — кричал старпом, но огненные любовники пропали в космических сферах.
— Надо бы еще попробовать, — вздохнул старпом. — Интересно, где же все-таки бриллианты?
Глава XLVIII. В РАССОЛ!
Старпом взял в руки третий камушек и только размахнулся, как лоцман сказал:
— Позвольте, а что это у нас все старпом да старпом камни бросает? Дайте и мне попробовать, я тоже люблю огненные любовные игры. Пахомыч, отдай булыжник!
— Да здесь их полно, — отвечал старпом. — Бери да бросай!
— Передайте этот булыжник лоцману, — приказал капитан. — Я не позволю сжечь в любовной игре весь этот остров. К тому же, посмотрите-ка на те два главных камня, которые венчают всю эту пирамиду.
Да, мы совсем забыли про два огромных камня — черный и красный — огромнейшие яйца на макушке острова.
— Смотрите, какая между ними узкая щель, — продолжал капитан. — Не дай Бог их сдвинуть, представляете себе, что тут начнется?!. Догадываетесь? Так что, лоцман, кидайте этот небольшой булыжник, и — хорош.
Лоцман схватил булыжник и шмякнул им в какой-то камень неподалеку от нас. Слишком уж близко ударил лоцман, и сам ошпарился, и нам пришлось отбежать на несколько шагов.
С шипеньем и клекотом явились перед нами новые фигуры: мужчина и женщина. Они кинулись друг к другу, но тут же отпрянули в стороны.
Мужчина снова кинулся к ней, но женщина оттолкнула.
— Нет-нет, — повторяла огненная женщина, — я с тобой обниматься и сгорать напару не собираюсь.
— В чем дело? — сокрушался огненный человек.
— Ты мне совсем не нравишься. В тебе больше дыму, чем огня.
И действительно, новоявленный воспламенившийся пылал не так активно, он скорее тлел, и если до колен ноги его были раскалены как угли, то выше он совсем терялся в дыму и в копоти.
— Коптишь, брат, слишком коптишь небо, — объясняла женщина. — Я лучше сольюсь в игре с кем-нибудь из этих джентльменов, ну хотя бы с тем, кто бросил в меня камень. Вполне приличный человек и, кажется, лоцман. Сейчас возьму, сожму и сожгу его в своих любовных объятьях.
И она, играя призрачным алым бедром, направилась к лоцману.
— О нет! Только не это! — вскричал потрясенный лоцман. — Я не люблю огненных ристалищ, терпеть такой любви не могу! У меня уже была одна, которая сожгла всю душу, хватит! Целуйте капитана или старпома! Да и чин-то у меня маленький. Всего-навсего лоцман!
— О нет! — твердила женщина, протягивая к лоцману жаркие длани. — Ты бросил в меня камень! Ты разбудил! Ты!
— Эй, девушка! — крикнул старпом. — Извините, вы не подскажете нам, гду тут у вас драгоценности? А?
— Вот они, драгоценности, — говорила девушка, оглаживая свои бедра, чресла, перси, ланиты, флегмы, гланды и шоры. — Вот перлы!
— А другие? — крикнул старпом.
— А другие у него, — указала она на лоцмана огненным пальцем и буквально ринулась к нему. Шлейф раскаленной пыли взметнулся над нами, а лоцман, как сидел, так неожиданно и подпрыгнул и бросился в воды океана.
Он вынырнул довольно далеко от берега, как следует отфыркался и закричал:
— Иди сюда, кобылка моя! Иди сюда, о полная перлов! О, какие объятья я тебе приготовил! Волна! О, волна — соленая перина моей любви, сотканной из крови, пота, соли и огня! Прими мою огненную подругу!
— Фу, подонок, — плюнула огненная любовница. — Какой у вас, оказывается, хитроумный и противный лоцман. Спрятался от жара сердца в соленый холодок. В рассол! В рассол!
Огорченная, металась она, заламывая руки, и, наконец, всосалась обратно в камень.
{79}— Ну, а мне-то что ж теперь делать? — ныл дымный мужчина. — Никто меня не любит. Поджарьте хоть на мне шашлык или вскипятите чайник.
Ну, мы добродушно повесили чайник на нос дымному мужчине, дождались, пока он закипит, заварили краснодарского и долго сидели вокруг обиженного судьбой любовника, как будто возле костра. Попили чайку, спели несколько песен.
— Подвесьте еще чего-нибудь, подвесьте, сварите, накалите, просушите. Я хочу быть полезным.
К вечеру отправились мы на «Лавра» и долго смотрели с борта, как дотлевает на берегу неудачный любовник.
Глава XLIX—LI. ПОРЫВ ГНЕВА
Остров, на котором ничего не было, мы заметили издалека и не хотели его попусту открывать.
— А чего его зря открывать? — ворчал Пахомыч. — На нем ни черта нету. Только пустые хлопоты: спускай шлюпку, суши весла, кидай якорь, рисуй остров, потом все обратно поднимай на борт. Ей-богу, кэп, открытие этого острова — чистая формальность. Просто так, для числа, для количества, для галочки.
— Для какой еще галочки? — спросил Суер.
— Ну это, чтоб галочку в ведомости поставить, мол, открыли еще один остров.
— В какой еще ведомости? — спросил капитан.
— Извините, кэп, ну это в той, по какой деньги получают.
— Какие еще деньги? — свирепея, спрашивал сэр Суер-Выер.
— Рубли, сэр, — ответил, оробев, старпом. Он как-то не ожидал, что его невинные размышления насчет галочки могут вызвать такой гнев капитана.
Я-то давно уж предчувствовал, как медленно и неотвратимо где-то зреет гнев.
Как змееныш
в яйце раскаленного песка,
как клубень картошки,
как свекл,
в гнилом перегное земли,
как образ,
в бредовом мозгу поэта
совсем неподалеку от нас созревал гнев.
В ком-то, в одном из нас, но в ком именно, я не мог понять, хотя и сам чувствовал некие струны гнева, готовые вот-вот во мне лопнуть.
— Рубли, сэр, рубли...
— Какие еще рубли? — ревел Суер.
Старпом совершенно растерялся, он мыкался и что-то мычал, но никак не мог разъяснить, какие по ведомости получаются рубли.
Уважаемый же наш и любимый всеми сэр расходился все сильнее и сильнее, по лицу его шли багровые пятна и великие круги гнева.
— Рубли! — хрипел он и не мог расслабить сведенные гневом мышцы.
Очередной приступ гнева потряс его, спазм гнева охватил его, конвульсии гнева довели до судорог гнева, до пароксизма и даже оргазма гнева.
— Рубли! Для галочки! Старпому! Немедленно! Прямо сюда! На палубу!
Мы выволокли из трюма сундук с рублями, сунули старпому ведомость.
— Ставьте галочку, старпом! Ставьте! Мы с вами в расчете! Вы у нас больше не работаете! Уволены! Вот вам ваши рубли! Ставьте галочку!
— Ой, да что вы, сэр! — совсем потерялся Пахомыч. Он никогда не видел капитана в таком гневе, и мы наблюдали впервые. — Поверьте, сэр, я ничего такого... я же не против... а насчет галочки, так это я...
— Галочки! — ревел капитан. — К чертовой матери эту галочку! Вы уволены и списаны на берег.
— На какой же берег, сэр? — уныло толковал старпом. — Придем в Сингапур.
— Вот на этот самый, — приказывал Суер, — на этот, на котором ничего нет. Пускай теперь на нем будет списанный старпом! Давайте — давайте, не тяните!
Задыхаясь от гнева, Суер спустился в кают-компанию. С палубы слышно было, как он сильно булькнул горлом в недрах фрегата.
— Вермут! — догадался матрос Петров-Лодкин.
— Что еще? — гневно переспросил старпом.
— Ах, извините, старп! Херес!
— То-то же, дубина! — в сердцах сказал Пахомыч, присел на корточки и стал считать деньги.
{80}— Слез он на берег или нет? — послышалось из недр.
— Слезает, сэр, — крикнул я. — Сейчас досчитает до триллиона.
— Галочку поставил?
— Еще нет, сэр! Вот-вот поставит!
В недрах фрегата послышался орлиный клекот, и новая эпилепсия капитанского гнева потрясла фрегат.
Один рубль тяжело на палубе шевельнулся, зацепил краешком вторую бумажку, третью... Некоторое время недосчитанные рубли неистово толкались, наползали друг на друга, обволакивали, терлись друг о друга с хрустом, складывались в пачки и рассыпались и вдруг сорвались с места и взрывом охватили мачты.
Они летели
к небу
длинной струей,
завивались в смерчи,
всасываясь в бездонные дыры между облаками.
— Ставьте же скорее галку, старп! Скорее галку! — орал Петров-Лодкин.
Старпом, задыхаясь, дергал гусиным пером и никак не мог попасть своей галочкой в нужную графу.
— Помоги же! — умолял он меня.
Я содрал с него двенадцать процентов и сунул какую-то галку в графу.
— Все в порядке, сэр! — крикнул я. — Галочку поставили!
— Вон! — проревел Суер, и порыв капитанского гнева вынес нашего Пахомыча на остров, на котором до этого совершенно ничего не было.
Глава LII. ОСТРОВ, НА КОТОРОМ СОВЕРШЕННО НИЧЕГО НЕ БЫЛО
Жесткие судороги капитанского гнева по-прежнему сотрясали корабль, хотя Пахомыча уже и не было на борту.
Понимая, что порыв угасает, мы всё-таки опасались новых приступов, и все, кроме вахтенных, расползлись по своим каютам.
Я спрятался за хром-срам-штевень, наблюдая за Пахомычем.
Старпом прохаживался по острову, на котором совершенно ничего не было. Растерянно как-то и близоруко бродил он с матросским сундучком в руке. В сундучке лежало его жалованье и полный расчет.
— Эгей! — крикнул я.
— Эй! — отозвался старпом.
— Ну что там, на острове-то?
— А ничего, — отвечал старпом. — Ничего нету.
— Неужели совсем ничего?
— Да вроде ничего... Как-то непонятно, не по-людски...
— Ну может, хоть что-нибудь там есть?
— Да пока ничего не видно, — отвечал Пахомыч.
— Ну а то, на чем вы стоите, что это такое? Не земля ли?
— Черт его знает, — отвечал старпом. — Вроде не земля... такое какое-то...
— Может, песок или торф?
— Да что ты говоришь, — обиделся Пахомыч, — какой песок? Ни черта нет.
— Ну а воздух-то там есть? — спросил я.
— Какой еще воздух?
— Ну, которым ты дышишь, старый хрен!
— Дышу?.. Не знаю, не чувствую, а воздуха не видать.
— Эва, удивил, — вмешался неожиданно мичман Хренов, который, оказывается, сидя в бочке, прислушивался к разговору. — Воздуха нигде не видать. Он же прозрачный. Отвечайте толком, есть там воздух или нет?
— Нету, — твердо решил старпом, — и воздуха нету.
— Ну уж это тогда вообще, — сказал лоцман Кацман. — Заслали нашего старпома... Эй, Пахомыч, да может, там где-нибудь бар или брэнди продают?
— Да нету ничего, — уныло отвечал старпом. — Главное — денег до хрена, а тратить не на что. Я уж хотел было где-нибудь сушек купить или сухарей, а ничего нигде нету.
— Пустота, значит, — сказал Хренов.
— И пустоты вроде нету, — отвечал Пахомыч. — Только я тут и сундук с деньгами.
— Этого вполне достаточно, — сказал вдруг наш капитан сэр Суер-Выер, {81}неожиданно появляясь на палубе. — Пахомыч с деньгами — это уже Бог знает сколько! Несчастный остров, на котором совершенно ничего не было, вдруг так многообразно разбогател. Даже на острове Цейлон нет подобного богатства.. Впрочем, не думайте, что я так уж быстро остыл. Да, да, не думайте! Поостыл немного — это верно, да и то скажите спасибо хересу.
— Сэр, — сказал Пахомыч, — дозвольте вернуться на корабль и поблагодарить херес лично, с глазу на глаз.
— Ничего, не беспокойтесь, я ему передам ваши приветы... а вам, старпом, я посоветую... поищите как следует, вдруг найдете на острове что-нибудь.
— Что именно искать, сэр?
— А вот этого я не знаю. Должно быть хоть что-нибудь в кустах.
— Да нету же и кустов, сэр! — воскликнул старп со слезами в горле.
— Ищите! — настоятельно порекомендовал капитан, — А если ничего не найдете, так и останетесь на этом острове, как единственный признак наличия чего-то в пространстве.
— Сэр! Сэр! Я лучше здесь оставлю рубль! Этого вполне достаточно!
— Оставляли бы червонец. Нет, старпом... ищите!
— Сэр! — негромко сказал я, — это ведь невыполнимая задача. Ведь нету совершенно ничего. Посмотрите на него, сэр.
Пахомыч действительно бродил по острову, шарил как слепец рукою в пространстве, придерживая левой сундучок.
— Ты думаешь, что он ничего не найдет? — спросил капитан.
— Да ведь невозможно, сэр! На острове совершенно ничего нет: ни земли, ни травинки, ни воздуха... ни даже пустоты... только ничто.
— Да? На острове ничего нет, а как же мы его видим?
— Я и сам в недоумении, сэр. Вроде ничего нету, а мы что-то видим.
— В том-то и дело. Мы видим НЕЧТО. Подчеркиваю: видим НЕЧТО. Только не знаем, как это называется, но оно ЕСТЬ! Есть, черт вас подери! Приглядись же как следует и попробуй сформулировать, что ты видишь.
Я вперился в пространство, пытаясь разобраться, что же я, собственно, вижу. И видел какой-то вроде бы остров, а потом то свет, то тень, то зигзаги и точечки, звездочки в крапинку или мокрые капельки,
туманные полосы, розоватую или оранжевую суету сует,
шелуху шепота,
чешую неясных движений,
какое-то вливание...
действительно, НЕЧТО, а вот что именно — неясно.
— Ну и что ты скажешь? — спрашивал капитан. — Как все это назвать?
— Затрудняюсь, сэр. НЕЧТО — самое точное слово.
— И даже очень хорошее слово, — сказал капитан. — Хорошее, потому что — точное! Понял? Нам кажется, что НЕЧТО — расплывчатое слово, не может быть точным, а оно — точное! А теперь я выскажу тебе одну свою великую догадку: во всяком НЕЧТО имеется ЧТО-ТО.
Капитан закончил свое могучее рассуждение, и не успел я еще осмыслить его, как на острове, на котором ничего не было, послышался какой-то шум, всхлипыванья, плач и сдавленный крик Пахомыча:
— Нашел!
Глава LIII. Ё МОЁ
О Боже, Боже, Боже мой!
Спаси и сохрани нас ищущих, не знающих что, и видящих НЕЧТО, не понимая, что это такое!
Не во тьме,
не во мгле,
не в свете,
не в пустоте,
не в тумане и не в пелене, а только в том, что можно было назвать НЕЧТО, стоял
наш старпом и кричал полушепотом:
— Нашел! Нашел!
Сундучок с деньгами, полный свой расчет и жалованье, он пнул пяткой и прижимал к груди найденное, белый сверток или даже кулек.
— Сахара, что ли, три кило? — сказал было Хренов, но тут же отчего-то фрикусил безык.
{82}Сэр Суер-Выер определенно растерялся. Я видел, как пальцы его сжимались и разжимались, будто искали что-то возле карманов брюк.
Находка старпома, очевидно, потрясла его, а, может, еще сильней потрясла собственная догадка: там, где ничего нет, все-таки что-то имеется.
— Лафет! Лафет! — шептал капитан, нервничая пальцами у брюк.
Никто из нас никак не мог догадаться, о чем это бессознательно бормочет сэр, мы растерянно переглядывались, наконец, меня осенило, и я пододвинул капитану пушечный лафет, на который он и присел в изнеможении.
Да, я понимал эту внезапную опустошенность и бессилие капитана. Порыв гнева измотал его до основания, великая догадка и находка старпома вовне осязаемого потрясли все-таки разум. Он знал, он догадывался, он предвидел, он ожидал и жаждал этого и все-таки был потрясен!
И все мы были потрясены, но, конечно, не с такой силой, ибо разум наш был форматом поменьше, пожиже, похилей. Жидкий разумом Хренов даже вынул фляжку из пиджака и глотнул бормотухи.
— Шлюпку! — скомандовал я.
Матросы во главе с Веслоуховым бросились выполнять команду, скинули шлюпку, заплюхали веслами. Сэр Суер-Выер благодарно сжал мое запястье. Рука у него была влажная, горячая и сухая.
Шлюпка повернулась, развернулась и вот уже двинулась обратно к «Лавру». На носу стоял старпом, полный смысла и одухотворенности. Белый сверток он прижимал к груди.
Сундучок с деньгами он забросил, и остров, на котором ничего не было, мог оказаться островом рублей, да матрос Вампиров в последний момент подхватил сундучок с собою в шлюпку, и остров остался в своем первозданном виде, если, конечно, не считать свертка, везомого на «Лавра». Торжественно взошел на борт наш тертый старпом и протянул находку капитану.
Суер принял ее с поклоном, быстро развернул белые материи, и мы увидели младенца. Завернутый в одеяло, он спал, доверчиво прижимаясь к жесткому кителю нашего сэркапитана.
— О! — восклицали мы. — О!
— У! — сказал Чугайло, тыча в младенца своим дубовым пальцем. — У!
— А? — спрашивал лоцман Кацман. — А?
— Э, — тянул мичман Хренов. — Э.
— Ы! — выпятился Вампиров.
— И, — хихикнул Петров-Лодкин.
— Й, — икнул Семенов.
— Е, — предложил стюард Мак-Кингсли, вынося поднос фужеров сахры.
— Ё, — добавил я, почесав в затылке. — Ё мое.
— Ю! — воскликнул капитан, догадываясь, кого мы заимели на борту.
Он поднял высоко находку, показывая команде, и тут уж младенцу ничего не оставалось, как немедленно проснуться, открыть глазки, зевнуть, потянуться, сморщить носик, и отверзть уста:
— Я!
Глава LIV—LV. РОД
Скрип и шелест, шлеп и гомон, гогот счастья, тыканье пальцами, засаленные конфетки «Каракум», объедки пирогов с морковью, крики «тю-тю-тю» — все это тянулось, вертелось и приплясывало вокруг капитана с ребенком на руках.
Всякий мало-мальский член экипажа строил харю, надеясь такою харею младенца развлечь, привлечь на свою сторону, распотешить и развеселить.
В этой всеобщей галиматье первым пришел в себя наш тертый старпом.
— Поднять концы! — приказал он. — Отнять со дна грузилы и якоря. Подымите также чугунную рельсу, которую мы скидывали для усиления груза, а ту тыщепудовую гирю, которая усиливала рельсу, хрен с ней, можете не подымать!
Матросы быстро выполнили указ, легкий бриз подхватил паруса нашего фрегата, и мы самым благополучным образом понеслись, на зюйд-зюйд-вест.
Старпом беспокойно оглядывался на остров, на котором ничего не было, и вид у него был тревожный, будто он чего-то украл.
И действительно, если вдуматься в смысл дела, в поступке старпома было что-то преступноватое: обнаружил младенца, схватил, уволок. А если оставил сундук с деньгами, так уж надо было его оставлять, а не передоверять Вампирову.
Спасибо, что легкий бриз быстро оттащил «Лавра» в сторону, да ведь и без {83}тыщепудовой гири тащилось легче! Стал бы старпом раскидываться направо и налево тыщепудовыми гирями?! О вряд ли! Старп чувствовал себя виновным.
Младенец оглядел фрегат самым внимательным образом, осмысленно измерил глазом расстояние между мачтами, выпростал из-под одеяла ручонку, обвел все вокруг пальчиком и сказал свое первое слово:
— Лавр!
Подумавши, добавил:
— Георгиевич!
— Ну, едрить твои котелки! — закричали матросы. — Ну его к едрене фене! Какой смышленый несмышленыш!
Сэр Суер-Выер все еще не мог прийти в себя, и мне пришлось взять на себя инициативу. Я поприветствовал малютку изысканным поклоном и сказал:
— Господин Ю! Каким образом вы угадали название фрегата?
Младенец трезво оглядел меня и отчетливо вымолвил:
— Дураку ясно, что это не крейсер «Аврора». Расстояние между мачтами указывает, что это и не фрегат «Паллада». Остается одно — «Лавр Георгиевич».
— Блестящее браво! — сказал я. — Позвольте еще один, но, извините, не совсем скромный вопрос. Так вот, задолго до вашего появления на борту, мы поспорили, какого рода буква «Ю»? Хотелось бы узнать ваше мнение.
— Можете меня развернуть, — сказал молодой господин.
Мне стало неловко, и сэр Суер-Выер неодобрительно повел плечом.
— Ну, тогда я сам развернусь, — сказал младенец. — Гипотезу надо доказывать. Тут дело научное.
Он развернулся, и все увидели, что в свое время я был неукоснительно прав.
— Очень хорошо, — сказал мудрый Суер, — я проиграл в споре. Однако любопытно, верно ли мой друг определил род и других гласных.
— С точностью до гранулы миллиграмма, — подтвердил милейший господин Ю. — Но мне и самому любопытно, — продолжал он, — сумеет ли наш друг определить и род всех согласных?
— Не думаю, что сейчас время подобных рассуждений и определений, — заметил Суер-Выер. — Согласитесь, мы только что нашли вас там, где ничего нет. Вас породило Нечто, а мы тут болтаем о звуках и о буквах. Нам бы сейчас задуматься о Великом Нечто, о Конце и, конечно, о Начале.
— В начале было Слово, — улыбнулся младенец. — Важно и любопытно определить род и гласных, и согласных. Начинайте же, дорогой мэтр. Начинайте, а мы послушаем. Вначале только запретите матросам курить эти противные гаванские сигары из города Калязина.
Чугайло растолкал сигары по матросам, и я начал:
— Поверьте, я не тороплюсь. Все, что я скажу, это плоды долгих размышлений и тщательного взвеса на весах умения подмечать невидимое.
Б — мужского рода,
В — женского,
Г — среднего,
Д — мужского,
Ж — женского,
З — женского,
К — мужского,
Л — женского,
М — женского,
Н — среднего,
П — мужского,
Р — среднего,
С — женского,
Т — мужского,
Ф — среднего,
X — женского,
Ц — среднего,
Ч — среднего,
Щ — женского,
Щ — мужского.
— Очень и очень много спорного, — сказал сэр Суер-Выер. — Почему «х» женского рода? В чем дело? Почему «щ» — мужского, когда видна явная баба? Не понимаю, не принимаю, требую массу уточнений.
— Извините, сэр, — грубовато ответил я, — лично мне как-то не пристало {84}задирать буквам юбки или снимать с них штаны. Я вижу букву, слышу букву, читаю, кроме звука, ее рисунок. Это очень важно, кэп!
Младенец господин Ю засмеялся и так говорил:
— В русском алфавите осталось только два знака, не растолкованных вами. Это твердый и мягкий знак. Скажите, пожалуйста, какого они рода?
— Твердый знак — женского, а мягкий — мужского рода.
— Браво! — воскликнул младенец-господин. Позвольте же разрешить спор таким философским пассажем: правы все мы, так или иначе воспринимающие букву-звук, для кого она — среднего, для кого — женского, для кого — мужского рода. В этом истина. Каждая буква несет в себе единство трех родов, триединство. Все три рода в одной букве! Поэтому-то каждая буква — гениальна!
— Меня интересует, что делать с этим младенцем? — сказал неожиданно Суер-Выер. — Он слишком много на себя берет. Надо найти ему место. Кем он, собственно, будет числиться?
— Юнгой! — крикнул младенец.
— Да, друг, — сказал Суер, обнимая меня, — когда НЕЧТО породило младенца — это было гениально! И даже пока он рассуждал на своем уровне, все было неплохо. Но вот он превращается в юнгу! НЕЧТО породило юнгу! Кошмарный сон! Вот она, настоящая пониженная гениальность! НЕЧТО — и вдруг какой-то юнга, фырк, бырк, тюрк, шурк, кунштюк. О горе нам! НЕЧТО порождает НИЧТО!
Глава LVI. КРЮК
Младенец-господин-юнга-Ю соскочил с бочки, сбросил одеяло и, оказавшись нагим, заявил:
— Я наг, сэр! Где ваш кастелян?
— Спился! — гаркнул Чугайло.
— И где теперь?
— Утопили!
— Подать ему тельняшку и штаны, — приказал старпом.
Боцман сбегал в рундук, притащил тельняшку, усевшую после многотысячных стирок, и выполосканные до предела брюки-клеш.
Младенец облачился, превратился в юнгу и тут же принялся скакать и летать, как воробушек, по мачтам.
— Какое счастье! — кричал он. — Теперь я юнга! Я всю жизнь об этом мечтал! Быть юнгой на таком великом корабле, как «Лавр Георгиевич», под водительством сэра Суера-Выера! Гениальная судьба для молодого человека! НЕЧТО породило юнгу! Пусть оно и дальше порождает юнг, кассиров, трактористов и парикмахеров. Впрочем, вы немного ошиблись, капитан. Меня породило не НЕЧТО. Мою маму зовут Гортензия, а вот папа... действительно, неизвестен. Не знаю, где папа, не знаю. Может быть, и найдется на островах Великого Океана!
— Госпожа Гортензия говорила, что вы на острове Цветущих младенцев, а мы обрели вас совсем в другом месте.
— Вы знаете, — сказал юнга, — эти цветущие младенцы обрыдли мне до невозможности! Толстощекие и круглопузые, вечно они ссорятся из-за трехколесных велосипедов, я и перебрался в другое место. К тому же я был там самым худосочным и слабеньким. Они все обжираются самым бессовестным образом, едят все подряд — и колбасу, и сардельки, курятину и сыр пошехонский, а мне все капуста отварная, овсянка да овсянка — аллергия, сэр, диатез.
— Странно даже, что у такой могучей мамаши столь худосочное дитя.
— Вы имеете в виду шесть грудей? — засмеялся мальчик. — Ну и что? Ведь в них содержится только смысл, а вовсе не здоровье.
— Какой же смысл?
— Ну, в данном случае: разум, добродетель, везение, предвидение, осторожность и, к сожалению, трусость.
Увы, последняя, шестая, грудь меня разочаровала, да еще эти цветущие младенцы напугали своими игрушками и криком, а так я в порядке.
— Странно, — сказал капитан. — Какие необычные качества. А где же ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ?
— У меня их нету, — просто ответил юнга. — К тому же вовсе не у всех они встречаются. Большинство вскормлено двугрудыми мамашами, так что в каждом человеке есть всего два качества, у всех разные, но всего — два. Не буду называть имен, но и здесь, у вас на борту, я наблюдаю людей, в которых соединяются порой самые разные и странные качества: {85}в одном — жадность и любопытство, в другом — глупость и возвышенность души, в третьем — любовь и мелочность, в четвертом — процветание и крюк,
— Гм, гм, гм,— прервал капитан. — Крюк?
— Именно крюк.
— Но крюк — это не качество, это предмет.
— Предмет? Какой предмет?
— Вы что, никогда не видели крюк?
— Не видел, только чувствовал в других.
— Боцман, покажите юнге крюк.
— Извините, сэр, — подскочил Чугайло, — какой крюк?
— Все равно... какой-нибудь крюк, да и подцепите на него что-нибудь.
— Чем подцепить, сэр?
— Черт вас побери, чем угодно, лебедкой, краном, провались пропадом!
Боцман заскакал по палубе, двигая подзатыльниками направо и налево:
— Живо! — орал он. — Тащите сюда крюк! Шевелись, скотина!
Матросы забегали по судну в поисках крюка. Найти им, кажется, никакого крюка не удавалось.
— Извините, сэр! — задыхаясь, крикнул боцман. — Крюка нету!
Тут боцман подскочил к матросу Вампирову и врезал ему по зубам:
— Где крюк, сука?
— Да не брал я, не брал!
— А кто брал? Говори!
— Не скажу, — процедил Вампиров.
Боцман уж и скакал, и орал, и дрался, сулился рублем — матрос молчал.
— Пытать его! — орал боцман. — Тащите скуловорот!
— Пусть кэп прикажет, — сказал, наконец, матрос, — Тогда скажу.
— Говорите, матрос, — приказал Суер-Выер. — Кто взял крюк?
— Извините, сэр, но это вы взяли.
— Я? — изумился капитан. — Когда?
— Две вахты назад, сэр. Я как раз драил рынду, когда вы выскочили из каюты с криком: «Я вижу истину!» Схватили крюк, привязали его на веревку и стали шарить в волнах океана и сильно ругались.
— Не может быть, — сказал Суер. — Я ругался?
— Сильно, ругались, сэр! «Никак не подцепляется, зараза!» — вот вы что говорили. А я еще вас спросил, что вы подцепляете, а вы и сказали: «Да истину эту, ети ее мать!» Так и сказали, сэр!
Глава LVII—LXI. ОСТРОВ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ НА КАРТЕ
— Вы знаете, капитан! — воскликнул однажды утром лоцман Кацман. — Мы совсем неподалеку от острова, обозначенного на карте! Всего каких-нибудь десяток морских миль. Может, заглянем, а? А то мы все время открываем острова необозначенные, можно ведь и на обозначенный иногда поглядеть.
— Вообще-то здравая мысль, — согласился сэр Суер-Выер. — А как он называется?
— Что? — спросил Кацман.
— Остров как называется?
— Ага, понял, — сказал лоцман. — Сейчас, гляну как следует.
Он надел очки и вперился в карту.
— Бэ, — шептал он про себя. — Или вэ? Не поймешь.
— Ну, в чем там дело, лоцман?
— Понимаете, сэр, остров-то на карте виден, а вот название заляпано.
— Не знаю, — сказал Суер, — стоит ли заглядывать на этот остров. На карте он обозначен, а название — неизвестно.
— Да вы не беспокойтесь насчет названия, сэр, — сказал Кацман. — Мы ведь только на остров глянем — враз догадаемся, как он называется.
— Ну ладно, заглянем на этот остров, — сказал Суер. — Посмотрим, стоило ли, в сущности, его на карте обозначать. Сколько там до него, лоцман?
— Теперь уж всего два лье, сэр.
— Это недалеко. Возьмите льевей, старпом!
— Льево руля! — крикнул Стархомыч.
— Не понимаю, в чем дело, — сказал капитан. — Заснул, что ли, впередсмотрящий? Остров давно должен быть виден.
{86}— Ящиков! — гаркнул боцман. — Спишь, сучья лапа?
— Никак нет, господин боцман. Смотрю!
— На пуп?
— Вперед смотрю, как велено.
— А чего ж не орешь: «Земля! Земля!»?
— Не вижу!
— А ты протри очко, кобылий хрящ!
— Да вы сами посмотрите, — обиделся впередсмотрящий. — Не видать же!
Мы посмотрели вперед, но, как и Ящиков, земли нигде не заметили. Болталась на воде деревянная посудина, в которой сидели два каких-то морских хвоща.
— Эй, на лодке! — крикнул в мегафон старпом. — Где тут у вас остров?
— Какой остров? — спросили хвощи.
— Да этот, обозначенный на карте.
— А как он называется?
— Да не поймешь. У нас на карте название чем-то заляпано.
— А-а... так это вы не волнуйтесь, — отвечали с лодки. — У этого острова на всех картах название чем-то заляпано. На нашей тоже.
— А как же он называется?
— Да хрен его знает, название-то заляпано.
— Ну ладно, — сказал старпом, — а где сам-то остров?
— Остров-то? Да вы мимо проехали.
— Как это проехали?
— Уж это мы не знаем, а только проехали. Остров-то лежит поправее.
«Лавра» развернули, прошли еще парочку лье туда-сюда, туда-сюда. Никакого острова видно не было. Только в лодке сидел какой-то лопух в кепке.
— Эй! — крикнул старпом. — Где тут у вас остров?
— Да ничего, — отвечал лопух, — береть помаленьку.
— Остров, говорю, где?
— На червя, конечно, а бывает, и на голый, бля, крючок.
— А где остров, у которого название заляпано?
— Но мелочь, бля, замучила... тырк-тырк-тырк... за кончик дергаеть, а взять не можеть... дрочить и дрочить...
— Господин лоцман, — сказал капитан, — это была ваша идея — заглянуть на остров, означенный на карте. Где он?
— Не знаю, сэр! Не замыло ли?
— Что за хреновина? Название заляпали, остров замыли!
— Не знаем, сэр, — оправдывались мы. — Бывает и такое! Погодите, вон еще одна лодка. Давайте спросим.
В лодке сидели три на вид вполне благоразумных монстра.
— Господа! — крикнул старпом. — Где тут у вас остров, обозначенный на карте, у которого название заляпано?
— А, вон вы чего ищете, — отвечал старшой. — А мы-то думаем, чего это вы взад-вперед катаетесь? А вы остров ищете! Так вы его проехали, вам поправее надо, а после налево взять, тут увидите — лопух сидит в кепке, врет, что мелочь замучила, у самого в рундуке вон такие лапти лежат! От него все время бейдевинд. После надо прямо и увидите двух еще харь, вроде хвощей, вот у них точно мелочь, а они врут, что у них на карте заляпано. У них-то как раз и не заляпано. Они точно название знают.
— Ну и какое же это название?
— Так мы не знаем. У нас-то заляпано.
— А эти-то что, не говорят, что ли?
— Не говорят. Сами названием пользуются, а другим не дают. Такие жлобы!
Глава LXII. КАПИТАНСКОЕ ПАРИ
Мы проплыли еще немного вперед, проскочили мимо тех двух жлобов, у которых на карте название было, и довольно скоро увидели впереди обширнейший остров.
Издали заметны были богатые подвалы и крепостные рвы, капитальные фундаменты, выгребные ямы, оросительные системы, каналы.
Встречать «Лавра Георгиевича», вошедшего в гавань, высыпало много островитян, сильно напоминающих эдаких мгребо-индюков. У некоторых был весьма и весьма зажравшийся вид.
{87}— Извините, господа, — сказал капитан, когда мы высадились на берег, — ваш остров обозначен на карте?
— О, нет! О, нет! Что вы, капитан! Ни в коем случае!
— А ваш-то остров как называется?
— Сэр, мы боимся вас напугать.
— Да что вы, ей-Богу, говорите, пожалуйста, я вас прошу.
— Ну так слушайте. Это — ОСТРОВ, НА КОТОРОМ ВСЕ ЕСТЬ.
— Как то есть ВСЕ ЕСТЬ?
— Ну все, абсолютно ВСЕ.
— Шахматы и каштаны?
— Есть.
— Женщины, лошади, подтяжки, сухофрукты, водка, вкусная жратва, керосиновые лавки, мебель, канделябры, кокаин, мольберты, дети, скульптура?
— Есть.
— Самовары, очки, шоколадные изделия, бревна, ювелирные мастерские, обменные бюро, тещи, факиры, носки?
— Есть. Есть все это, сэр. Вы особо не утруждайтесь, не напрягайте мозги. У нас есть все.
— И вы все это можете нам дать?
— Дать? Почему это дать? Продать можем,
— Покажите товар, — сказал сэр Суер-Выер.
На этот раз досточтимый сэр отпустил на берег весь экипаж. Матросам пора было поразвлечься, купить, кто что мог по своим карманным возможностям.
На «Лавре» капитан все-таки оставил дежурного. Дежурить неожиданно вызвался боцман Чугайло.
— А ну их на хрен, — говорил он, — У меня тоже все есть! Не пойду, подежурю, только уж вы, сэр, потом мне два отгула, пожалуйста,
— О чем речь, господин Чугайло. Два отгула — две вахты, слово капитана! Чугайло остался на борту, ну а мы — иэх! — покатили по местным ларькам и керосиновым лавкам.
Многие, многие из нас тогда кой чего купили.
Кацман купил два фейерверка.
Старпом Пахомыч — запасной форштевень для «Лавра».
Хренов купил специальную клизму с хрустальным горлышком-раструбом. Этой клизмою, оказывается, собирают случайно пролитые из рюмок на стол напитки. Полезный и дорогостоящий прибор. Он потом сильно себя оправдал.
Механик Семенов купил было пассатижи, которые давно утерял, да тут случился конфуз. Продавец уже взял деньги, сунул их за пазуху и крикнул:
— Эй, Пассатижи!
Из подсобки вышел приземистый человек с жуткими плоскими челюстями.
— Чего, — говорит, — такое?
— А ничего. Тебя купили. Вот этот самый господин. Служи рачительно!
— Как?! — напугался Семенов. — Это пассатижи?
— Ну конечно, — сказал Пассатижи. — Зажать, отвернуть, придержать.
И он схватил зубами какую-то водопроводную гайку и мигом открутил ее от трубы, хотя и та, и другая заросли ржавчиной, как пни опятами.
— Да ну вас к хренам! — сказал Семенов. — Вертайте деньги! Я думал, нормальные пассатижи, а так-то я и сам могу.
И он зажал зубами ту же гайку и навинтил ее обратно на трубу.
Матрос Вампиров купил ухо кита.
Петров-Лодкин — стеклярус.
Впередсмотрящий — ящик пива.
Рулевой Рыков купил румпель, а румпелевой Раков купил руль.
Валет трефовый купил жилет пуховый.
— Откуда он взялся? — недоумевал Суер-Выер.
— Да этот вон валет.
— А, — сказал Кацман, — это из моей колоды. Выскочил — и покупать.
Сэр Суер-Выер присмотрел себе неплохую курительную трубку, ничего особенного, но — чистый вереск, удобный мундштук. Туда-сюда — дороговато.
— Послушайте, — сказал Суер островитянам, — мне хочется иметь эту трубку. Может, подарите?
— Извините, сэр, мы вас уважаем, но трубку продаем. Если вы, конечно, купите трубку, то мы бесплатно добавим вам ершики, чтоб ее чистить.
— А табачку?
{88}— А табачку, извините, сэр.
— Хорошо, — сказал Суер. — Итак, вы говорите, что у вас на острове все есть? Не так ли?
— Это так, сэр, — печально почему-то отвечали зажравшиеся островитяне.
— Предлагаю пари, — сказал Суер-Выер. — Я называю ТО, чего у вас на острове нет, и ставлю свой капитанский краб против этой трубки. Подчеркиваю: краб чистого золота.
— Не стоит вам спорить, сэр, — не советовали островитяне. — Мы понимаем, что вы сейчас назовете какую-нибудь нравственность или чистоту помысла. Не трудитесь, сэр, и это все у нас есть. У нас есть все предметы, существующие на земном шаре и вне его, есть все понятия и качества, не говоря уж о животных и растениях, есть все веры и нации, все горные хребты, моря и реки. И все это умещается, потому что есть и четвертое измерение! Есть все, сэр! Все! Абсолютно все! Берегите кокарду, сэр, и поверьте, мы вас очень уважаем и подарили бы трубку, но принципы, черт их подери, у нас тоже есть.
— Пари! — настаивал капитан.
— С нами многие спорили, — устало уговаривали островитяне. — То что-нибудь из космоса завернут, какую-нибудь туманность Андромеды, то из отвлеченных материй. Чепуха это. У нас есть все. Понимаете?
— Пари.
Продавец трубки, между тем, посматривал на капитанскую кокарду-краба с немалым интересом. Чем больше он на него глядел, тем больше хотел выиграть.
— Да что вы отговариваете, — говорил он своим согражданам. — Пускай играет. Пари есть пари. Я принимаю вызов. Пускай он шепнет мне на ухо, чего у НАС НЕТ, и все дела. Давай спорить. Пусть кто-нибудь разобьет.
Он выставил свою потную ладонь, и Пахомыч разбил спорящих. Сэр Суер-Выер наклонился и что-то шепнул на ухо продавцу. Тот побледнел, схватился за сердце и вяло протянул капитану трубку. Под гром оваций мы погрузились на корабль и отплыли от острова. На борту мы, конечно, пристали к Суеру, чтоб рассказал, как выиграл пари.
— Ну что вы сказали, кэп? Ну интересно же?
— Неужто не догадываетесь? — веселился уважаемый сэр.
— Никак нет, не догадываемся.
— Да все очень просто, — пояснял Суер. — Я сказал ему: У ВАС НЕТ БОЦМАНА ЧУГАЙЛЫ.
Глава LXIII. НАДПИСИ НА ВЕРЕВКЕ
Боцман Чугайло вначале даже не понял, в какой изумительной выступил он роли, и толковал о двух отгулах за дежурство.
Когда же немного стал соображать, повел речь и о третьем.
— Ну что, Хомыч, — спрашивал капитан, — дадим третий отгул?
— Не убежден, — упрямился старпом, — за что, собственно? За вашу гениальность? Нет. Он не заслужил.
— Вы старпом, вам и решать.
Не получивший третьего отгула боцман страшно разъярился.
— Мною трубки выигрывают! — кричал он с топотом. — А мне отгулов не дают! Я — высокоценная вещь, одна на всем свете, а мне отгула не дают! Такой вещи, как я, нету даже на острове, на котором все есть! Абсолютно все есть, а меня нету! А меня нету! А меня нету! Нету Чугайлы у них ни хрена! Нету Чугайлы у них ни хрена! Бедный я, бедный! Меня тама нету, а мне отгула не дают! Не дают! Не дают! А трубку курят! Курят! Курят! А я тут дежурю так, что жилы лопаются, а мне отгула на дают! В арбитраж!
Мы просто не знали, как его унять.
То он требовал третьего отгула, то вознаграждения, то хоть рюмочку портвейна, то златые горы, то лошадь, то саблю, то коня. Надоел ужасно.
Пока он прыгал, пел и плакал, мы не заметили, что за нами увязалась шкуна без опознавательных знаковых систем под черными парусами.
На ней вдруг появилось пороховое облако, и чугунное ядро взрыло нос перед нашим «Лавром». И потом уж грохнула пушка.
На шкуне по веревкам побежали разноцветные флажки, которыми было написано:
ОТДАЙТЕ НАМ БОЦМАНА ЧУГАЙЛО.
Капитан велел принести флажков и пустить по веревке такую надпись:
А ЗАЧЕМ ?
{89}В ответ написали:
НАДА.
Капитан велел:
ОБЪЯСНИТЕ ПРИЧИНЫ.
В ответ написали:
У НАС НА ОСТРОВЕ ЕСТЬ ВСЕ, КРОМЕ ЧУГАЙЛЫ,
ОТДАЙТЕ, А ТО ХУДА БУДЕТ.
— Прямо и не знаю, что делать, — сказал Суер. — Запятые ставят, как надо, а само «надо» пишут «нада», к нему еще и «худа». Эй, веревочный, напиши там:
У ВАС ОШИБКИ.
В ответ написали:
КАКИЕ ЕЩЕ, ЯДРЕНЫТЬ, ОШИБКИ?
Суер велел веревочному:
ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ.
В ответ написали:
ВАМ ЧЕГО, ХУДЫ НАДА?
Веревочный Верблюдов сказал:
— Разрешите, сэр, послать их на этот остров.
— Нет-нет, — сказал капитан, — я не позволю писать такое флажками нашего «Лавра». Чего-чего, а у нас на судне цензура есть. Напишите так:
СОВЕТ ЗАСЕДАЕТ. ОБОЖДИТЕ.
Они написали:
ЛАДНО.
— Ну что будем делать, господа? — спросил капитан. — Отдадим или нет?
— Отдать можно, — рассуждали мы, — но интересно, что мы получим взамен.
— На сундук драгоценностей можно не рассчитывать, — сказал капитан.
— Ну тогда хоть ящик пива, — сказал Хренов.
— И пару вобил, — добавил Семенов.
— Да не дадут, — сказал старпом. — Пусть хоть по бутылке на брата. Вобла-то у нас еще осталась. Эй, Верблюдов, напиши там:
А ЧЕГО ДАДИТЕ?
Те, на шкуне, долго не отвечали, наконец, выкинули на веревке такие флажки:
ЗАСЕДАЕМ СОВЕТОМ.
Все это время боцман Чугайло носился по фрегату, прыгал с бака на корму и с фока на бизань.
— Судьба человека! Судьба человека! Судьба человека! — орал он. — Решается! Решается! Решается! Хрен с ним, с третьим отгулом!
Наконец, на шкуне выкинули флажки:
ДАЕМ БУТЫЛКУ ПИВА ЗА КИЛО ВЕСА.
— Черт возьми, — сказал капитан. — Пиши, Верблюша:
КАКОГО?
В ответ написали:
ЖИВОГО.
Капитан велел:
ДА НЕТ, ПИВА КАКОГО?
В ответ написали:
ЖИГУЛЕВСКОГО.
— Ну что ж, — сказал капитан. — Решайте, братцы, что будем делать. Уж очень неохота ядрами с ними перебрасываться.
— Надо брать, — сказал Хренов. — Но сколько же он, черт побери, весит?
— Эй, взвешиватели! — крикнул старпом, и из трюма выскочили наши корабельные взвешиватели Хряков и Окороков с гирями наголо.
— Чего вешать? — ревели они.
— Нельзя ли поспокойнее? — сказал им старпом. — Дело деликатное, а вы гирями размахались. Посмотрите на боцмана и прикиньте на вид, сколько он весит. Пудов на пять тянет?
— И больше вытянет.
— Ну и ладно, — сказал старпом. — А уж там точно взвесят.
— Капитан! — взмолился вдруг боцман и пал на колени. — Спасите, капитан! Я не хочу на этот остров! Оставьте на борту! Я хоть и разбил кому-то харю или две, но в целом-то я очень добросердечный, душевный и хороший человек. Я люблю людей, детей, собак, бабочек и даже жеребцов. Хрен с ними, с отгулами, {90}у меня золотое сердце, я и матом больше не буду, и пить не буду, только рюмочку на Пасху, спасите, сэр, я вам еще пригожусь, поверьте, дорогой сэр!
— Встаньте, боцман! — приказал капитан. — Я и не знал, что вы так дорожите «Лавром». Я готов оставить вас на корабле, но как это сделать? Они вот-вот начнут пальбу, а у нас всего лишь пара ядер, да и те кривые, как тыквы.
— Капитан, вы — гений, — сказал боцман. — Сделайте же что-нибудь гениальное.
— Пока ничего в голову не приходит, — сказал Суер. — Ладно, давайте пока поторгуемся, напиши там:
МАЛО.
Те ответили:
ДАЕМ ПО ДВЕ.
— Надо как-то выиграть время, — сказал капитан, — но как? Стоп! Нашел! Объясняю суть: все мы были на острове, кроме Чугайлы, поэтому я и выиграл пари. А теперь-то и нас там нет. Понятно? Ну ладно, кому непонятно, поймет впоследствии. Эй, веревочный, выкидывай надпись:
У ВАС НА ОСТРОВЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТУ ЧУГАЙЛЫ?
Они написали:
НЕТУ.
Суер велел:
А СУЕР-ВЫЕР ЕСТЬ?
Они подумали и так написали:
БЫЛ, А ТЕПЕРЬ, КАЖИСЬ, ТОЖЕ НЕТУ.
И дальше пошло, как по маслу:
А СТАРПОМ ПАХОМЫЧ ЕСТЬ?
НЕТУ.
А ЛОЦМАН КАЦМАН?
НЕТУ.
А ФРЕГАТ «ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ» СО ВСЕМ СВОИМ ЭКИПАЖЕМ ЕСТЬ?
НЕТУ.
Капитан вытер нервный пот и сказал:
— Пиши, вервие:
СОГЛАСНЫ ВСЕ ЭТО ОТДАТЬ ЗА ДВЕ БУТЫЛКИ ПИВА
ЗА КИЛОГРАММ ЖИВОГО ВЕСА.
На черной шкуне очень долго заседали, их веревочные и румпелевые бегали там сверху вниз, таская ящики пива, кто-то даже кого-то бил по морде, и мы выкинули вопрос:
КОГО ТАМ ПО МОРДЕ БЬЕТЕ?
ДА ТУТ ОДИН ДЕСЯТЬ БУТЫЛОК ПИВА ВЫПИЛ,
— ответили они.
Наконец, мы увидали на ихней веревке такую надпись:
У НАС СТОЛЬКО ПИВА С СОБОЮ НЕТУ.
Суер с облегчением вздохнул и сказал:
— Пиши, Верблюша:
ВЫ ВАЛЯЙТЕ ОБРАТНО ЗА ПИВОМ, А МЫ ЗДЕСЬ ПОДОЖДЕМ,
ВЗВЕСИМСЯ КАК СЛЕДУЕТ.
В ответ написали:
А НЕ ОБМАНЕТЕ?
Капитан засмеялся.
— Пиши, Вербо, — сказал он:
ЧЕСТНОЕ КАПИТАНСКОЕ.
Те написали:
ВЕРИМ В СЛОВО ВЕЛИКОГО КАПИТАНА. ВЕРНЕМСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА.
Шкуна развернулась и дунула на остров за пивом.
— Ну а теперь, Пахомыч, — сказал капитан, — дуй до горы! Валяй на всю катушку! Трави фок-стаксели хоть налево, хоть направо.
— А ну шевелсь, бесенята! — заорал старпом, и Чугайло вскочил с колен и набросился на матросов с подзатыльниками. «Лавр» раздул свои великие паруса и дунул по восемьдесят седьмому меридиану вниз.
— Как-то неловко, сэр, — сказал я. — Ваше слово — честное капитанское! Обман! Это нас унижает!
— Извини, друг, — сказал Суер-Выер, — как ты меня сейчас назвал?
— Я назвал вас «сэр», кэп.
— Так вот, в первую очередь я — сэр, а уж потом — кэп. Еще одно честное слово — слово сэра — у меня осталось в запасе.
{91}
Глава LXIV—LXVI. ПРЕЛЕСТЬ ПРОЗЫ
— Я растерян, — сказал как-то Суер. — Сходить на берег или нет? Глянь.
Остров, в бухте которого «Лавр» бросил якорь, был довольно живописен: скалы, сколы, куртины, но люди... Люди, которые бродили по набережным, вызывали острейшее чувство жалости.
Все они были оборванные, на костылях, кто ковылял, кто валялся. Они протягивали руки, явно прося подаяние.
— Ну, что скажешь?
— Похоже, что это нищие, сэр.
— Сам вижу, что нищие. Но как это может быть? Одни только нищие. Где же подающие?
Подающих не было видно. Как мы ни разглядывали остров в сильнейшие квартокуляры, хоть копейку подающих не нашли.
— Очевидно, они думают, что подающие — это мы, сэр. У нас — роскошный фрегат. Из камбуза пахнет щами, вон у Чугайло серьга в ухе, Хренов явно пил портвейн, капитанский краб — чистого золота, старпом гладко выбрит, лоцман — еврей, так что мы вполне похожи на подающих.
— Ну и что делать? Сходить на берег или нет?
— Решайте, кэп. В конце концов, почему бы не подать милостыни Христа ради? Надо подавать по мере возможности.
— Действительно, — сказал капитан, — Христа ради можно и подать. Наберите в карманы мелочи, каких-нибудь там копеек, и сойдем на берег.
— Если уж вы подаете Христа ради, то зачем мелочиться, кэп? — сказал некстати я. — Почему «набрать там копеек»? Подавайте копейки ради себя, а Христа не приплетайте.
— Что еще такое? — сказал капитан, с неудовольствием оглядывая меня. — Ты сам-то сколько собрался подавать?
— Подам по силам.
— И на какую же сумму у тебя этих сил?
— Смотря по обстоятельствам.
— Ну и какие сейчас у тебя обстоятельства?
— Весьма скромные.
— Отчего же это они такие скромные? Пьешь, что хочешь, даже из капитанских запасов, столуешься с офицерами, что-то чиркаешь в пергаменте, а что начиркал — никто не проверял.
— Вы хотите сказать, что на судне имеется цензура?
— Я об этом говорил, и не раз. Когда веревочный хотел послать их судно на ..й, я не велел. Не позволил осквернять флажки «Лавра».
— А уста?
— Что уста?
— Устно-то вы сами посылали, и не раз.
— Ну знаешь, брат, цензура есть цензура, она не всесильна, всюду не успевает. Но на флажки я всегда успею!
— Но на пергаменте я «чиркаю» отнюдь не флажками.
— А нам это нетрудно перевести! Чепуха! Эй, веревочный! Изобрази-ка флажками, чего там начиркал этот господин, а уж мы проверим, цензурно это или нецензурно. Давай-давай, тяни веревки!
— На все дело, пожалуй, флажков не хватит, — сказал веревочный Верблюдов, заглянув в пергамент. — Ну ладно, поехали с богом!
И он вытянул на веревках в небо первую фразу пергамента:
ТЕМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖИДКОЕ ТЕЛО ОКЕАНА.
— Твердо, — читал капитан. — Мыслете... наш... како... рцы... КРЕПДЕШИН НОЧИ... ого! это образ!... сильно, сильно написано, ну прямо Надсон, Бальмонт, Байрон, Блок и Брюсов сразу! Тэк-тэк... живот, добро... ЖИДКОЕ ТЕЛО... достаточно.
Капитан дочитал фразу до конца и утомленно глянул на меня.
— Это ты написал?
— Выходит так, сэр.
— Ну и что ты хочешь этим сказать?
— Ну, дескать, ночь настала, — встрял неожиданно Кацман.
— Да? — удивился Суер. — А я и не догадался. Неужели речь идет о наступлении ночи? Ах, вот оно что. Но интересует вопрос: цензурно ли это?
Заткнутый лоцман помалкивал, а старпом и мичман, механик и юнга туповато глядели на веревки и флажки, но высказываться пока не спешили.
{92}— Одно слово надо бы заменить, — сказал, наконец, старпом.
— Какое? — оживился Суер.
— Тело.
— Да? А что такое?
— Ну... вообще, — мялся старпом, — тело, знаете ли... не надо... могут подумать... лучше заменить.
— И жидкое, — сказал вдруг Хренов.
— Что жидкое?
— И «жидкое» надо заменить.
— А в чем оно нецензурно?
— Да у нас всюду жидкости: перцовка, виски, пиво... могут подумать, что мы вообще плаваем по океану выпивки.
— Заменить можно, — согласился капитан. — Но как? Хренов и старпом посовещались и предложили такой вариант:
ТЕМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖУТКОЕ ДЕЛО ОКЕАНА.
— Литература есть литература, — пожал я плечами. — Менять можно что угодно. Важно, как все это прочтут народные массы.
— Важно? Тебе важно, как они прочтут? Ну и как же они прочтут?
— Они будут потрясены, сэр, поверьте.
— Сомневаюсь, что эта фраза вообще дойдет до народных масс, — сказал Суер с легким цинизмом. — Это написано слишком элитарно. Для таких, как я, или вот — Хренов.
— Знаете, сэр, — сказал я, — трудно доказать труднодоказуемое, но в данном случае доказательство налицо. Народные массы потрясены. Гляньте на остров, сэр!
Да, друзья, на острове происходило нечто невообразимое. Нищие повскакивали с мест, размахивая костылями и протезами. В средине стоял на камне какой-то толмач, очевидно, старый моряк, который, указывая пальцем на флажки, читал им по складам нашу скромную фразу.
Как громом пораженные разинули они свои искусственные рты, оттопыривали ладонями уши, силясь понять всю прелесть, остроту, музыкальность и образность нашей прозы, пытаясь постичь, зачем? почему? к чему? для чего? как? относятся к ним слова, начертанные в небе флажками:
ТЕМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖИДКОЕ ТЕЛО ОКЕАНА.
Глава LXVII. ЛУННАЯ СОНАТА
Пожалуй, в этот момент капитан и начал насвистывать «Лунную сонату».
— А что касается народных масс, — продолжал капитан, — они, действительно, потрясены. Но воспринимают как издевательство. Они просят подаяние, а им — крепдешин в небе! Величайший маразм!
— Некоторое количество культуры и нищим не повредит, — сказал вдруг Хренов, очень, кажется, довольный тем, что его причислили к элите.
— Они потрясены, потому что ни хрена не понимают, — влез Кацман. — Им надо было просто написать: «НАСТАЛА НОЧЬ!»
— Вот это поистине гениально, — сказал я. — Представляете себе: приплывает фрегат на остров нищих, те тянут свои несчастные длани, а на фрегате вдруг средь бела дня надпись: «НАСТАЛА НОЧЬ!». Такая фраза может привести к массовым самоубийствам. Тут уж рухнет последняя надежда. У меня хоть и в небе, но все-таки крепдешин.
— А может, наш вариант, «ЖУТКОЕ ДЕЛО»? — скромно кашлянул старпом.
— Знаете, что такое «ЖУТКОЕ ДЕЛО»? — спросил капитан.
— Что?
— Это когда старпом с Хреновым прозу пишут.
— Слушаю, сэр, — сказал Пахомыч и отошел в сторону.
Мичман Хренов немного поник. Он не знал, как тут быть — то его к элите причисляют, то прозу писать не велят. Все-таки он решил, что лучше уж быть причисленным к элите, а проза, хрен с ней, потерпит.
— Да я, сэр, так просто, — сказал он. — Забава... шутка пера...
— Оно и ясно, — сказал Суер, насвистывая «Лунную сонату». — А писать надо проще, — похлопал он меня по плечу, — брать пример с классиков.
— Постараюсь, сэр! — гаркнул я. — С Льва Толстого. Прикажите веревочному написать что-нибудь из прозы этого мастера. Ну например, из романа «Анна Каренина»: «ВСЕ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ ОБЛОНСКИХ.» Нищие на острове очень обрадуются. Там много интеллигентов.
{93}«Лунная соната», насвистываемая капитаном, зазвучала угрожающе. Он выпускал в меня трель за трелью: ху-ду-ду, ху-ду-ду, ху-ду-ду, пам! пам! пам!
Пожалуй, это была наша первая серьезная ссора за все время плаванья. И все из-за чего, из-за этих копеек, которые я некстати ввернул в разговор.
Кроме того, я прекрасно понимал, что «Лунная соната» — это прелюдия! Капитан ни за что, никаким образом не хотел сходить на берег. Страсти и страдания, которые неслись к нам, безумно терзали его, одарить всех он не мог, но и не подать руки просящему не мог тоже. Все эти разговоры насчет цензуры и первой фразы были оттяжкой действия. Капитан надеялся, что какой-нибудь шторм отбросит нас от берега, на который высаживаться не тянуло.
Я тоже не рвался в шлюпку. Я понимал все трудности пребывания на этом острове скорби и описания его. Но я побывал на всех открытых нами островах! И Суер, и лоцман, и старпом все-таки по одному островку пропустили. Как открыватель я был на первом месте, и место это собирался держать изо всех сил.
— Ху-ду-ду! Ху-ду-ду! Ху-дуду! Пам! Пам! Пам!
— А мне, сэр, очень нравится, — сказал вдруг юнга Ю, которого давным-давно никто не принимал в расчет, и надо сказать, что он все время держался очень скромно. — Мне очень нравится: плывет наш фрегат по Великому океану, и на нем флажками написано:
ТЕМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖИДКОЕ ТЕЛО ОКЕАНА.
— Ху-ду-ду! Ху-ду-ду! Ху-ду-ду! Пам! Пам! Пам!
— Это же чудесно, — продолжал юнга. — Все встречные корабли, да и люди на островах, будут радоваться. Иные просто посмеются, а другие задумаются о Великом океане, третьи подумают, что мы чудаки, зато уж всякий поймет, что корабль с такими флажками никому не принесет вреда.
— А вы, господин Ю, оказывается, лирик, — сказал Суер-Выер. — Ху-ду-ду! Ху-ду-ду! Я и не думал! Ху-ду-ду! Замечал склонности к философии, но лиризма не отмечал. Пам! Пам! Пам!
— Лирик — это вы, сэр, — поклонился юнга. — Я бы насвистывал «Патетическую сонату» с вашего позволения.
— Ладно, — сказал Суер. — Пусть надпись пока поболтается на веревках, а нам пора на берег. Подадим милостыню по мере возможностей. Кто со мной?
После разных заминок и подсчетов кошелька в шлюпку погрузились, кроме капитана, старпом и мы с лоцманом.
— Возьмите и меня, капитан, — попросился юнга. — Денег у меня нет, но вдруг да здесь мой папа. Я чувствую, что он недалеко.
— Ху-ду-ду! Ху-ду-ду! Ху-ду-ду! Пам! Пам! Пам!
Глава LXVIII. ОСТРОВ НИЩИX
Воющая, орущая, свистящая толпа окружила нас и стала хватать за полы халатов, за рукава, за орденские ленты.
— Дай! Дай! Крепдешину! — орали многие.
— Жидкого тела! Жидкого тела!
Каким-то образом некоторые узнали, что у Кацмана есть два фейерверка. Они дергали лоцмана за фалды с криком:
— Подай фейерверк!
— А ну-ка цыц! — гаркнул Пахомыч. — Разойдись по местам! Сядь! Прось культурно! Кому говорю?! Заткнись! Не ори! А то сейчас живого Чугайло с борта привезу! Он тебе подаст крепдешину в харю!
А остров меж тем пейзажем своим был гол как сокол, местами только валялись на песке обломки мраморных колонн и постаментов.
Нищие то ли напугались Чугайлы, то ли поняли, что хором нас не возьмешь, разошлись с легким ворчанием по своим законным местам и расселись в некотором скромном порядке.
Первым в этом чудовищном ряду сидел человек с деревянной рукой. Рука эта абсолютно бездействовала, а только тянулась к нам, однообразно приговаривая:
— Подайте Древорукому! Подайте Рукодревому! Подайте человеку, который ничего не имеет, кроме деревянной руки!
Суер подал целковый.
Старпом — гривенник.
Я подал подаяние.
Лоцман Кацман подал прошение об отставке.
{94}— В чем дело, Кацман? — спросил капитан. — Сейчас не время шуток, я бы сказал: кощунственных!
— Подаю, что могу, — отвечал лоцман. — Кстати, этот человек богаче меня. При наличии деревянной, вырезанной скорей всего из жимолости, руки, у него имеется и две других: левая и правая.
Наш деревяннный нищий, действительно, отложив в сторону резьбу по дереву, свободно философствовал двумя другими руками, пересчитывая подаяние.
— Что же получается, голубчик? — сказал старпом. — Вы нас обманули? Надули? У вас две живых руки, а вы нам подсунули деревянную!
— Зато смотрите, какая резьба! — воскликнул нищий. — Сейчас уже так никто не режет! Кроме того, я не подсовывал, я только показал вам деревянную руку и попросил подаяние. Вернуть гривенник?
— Милостыня есть милостыня, — сказал Пахомыч. — В конце концов, ваша третья рука всего лишь деревянная.
Дружески попрощавшись с троеруким, мы двинулись дальше и скоро подошли к человеку, который сидел в пыли и посыпал пеплом главу свою.
— Подайте на пепел! — приговаривал он.
— А что, у вас мало пеплу? — спросил старпом.
— Кончается. Я, конечно, как посыплю, потом собираю, но ветер развеивает. Старпом подал гривенник.
Суер целковый.
Я подал подаяние.
Лоцман подал прошение о помиловании.
Пеплоголовый прочел прошение лоцмана, достал из кармана синий карандаш и одним взмахом написал поперек: «Отказать!».
Распрощавшись хоть и с пеплоголовым, но находчивым в смысле лоцмана нищим, мы направились дальше.
Довольно скоро из кустов конкордия послышался тоскливый призыв:
— Подайте нищему духом!
Раздвинув хрупкие ветви, мы увидели человека, на вид совершенно нищего духом.
У него были полые глаза, сутулые веки, впалый лоб, присутствующее в дальних странах выражение лица, грубые ступни кожаных полуботинок, вялые квадраты клеток на ковбойке, локти, две родинки, медаль.
— Ну, может, у вас есть хоть немножечко духа? — спрашивал Суер.
— Нету ни хрена, — отвечал нищий, — вы уж подайте милостыню.
— А как же вы живете с духом-то с таким?
— Мучаюсь ужасно. Главное, что я не только нищий, я еще и падший. Падший духом, понимаете? И так-то духу нет, а он еще и падает!
Старпом подал гривенник.
Суер — целковый.
Я, как обычно, — подаяние.
Лоцман подал руку.
— Это еще что такое? — спросил нищий духом, увидев руку лоцмана.
— Моя рука, друг, — отвечал Кацман. — Поднимет ваш дух сильнее злата!
— Вы думаете? — засомневался нищий, рассматривая хиромантию.
— Да вы пожмите ее.
Нищий духом осторожно взял лоцманскую ладонь и пожал бугры Венеры и Мантильский крест, растерянно оглядываясь по сторонам.
— Ну как? — спрашивал лоцман. — Маленько поднимает?
— Да вроде нет, — отвечал нищий духом,
— Ну тогда и хрен с тобой, дружище, — сказал лоцман. — Если уж моя рука бессильна — никакие червонцы не помогут.
Мы приблизились к человеку, который монотонно топтал одну фразу:
— Подайте беженцу! Подайте беженцу!
Вид у него был загнанный, как у борзой и зайца. Не успели мы подойти — он вскочил, затряс руками и плечьми, и эдак дергаясь, кинулся стремглав с криком: «Отстань! Отстань, проклятый!» Пробежав круг с двести ярдов, пал на землю.
— От чего вы бежите, друг? — доброжелательно спросил Суер-Выер.
— Я бегу от самого себя, сэр, — отвечал нищий, обливаясь потом. И никак не могу убежать. Этот противный «я сам» все время меня догоняет. Да вы поглядите.
Он снова вскочил с места и закричал самому себе: «Отстань! Отстань, мерзавец!» — и рванул с места так, что песок брызнул из-под копыт.
Пробежав двести ярдов, он вернулся обратно и рухнул на песок.
{95}— Вы видели, сэр? Видели? Мне удалось обогнать самого себя на тридцать восьмом скаку, но на семьдесят девятом эта сволочь снова меня догнала! Подайте!
Суер подал целковый.
Старпом — гривенник,
Я подал подаяние.
Лоцман подал пример достойного поведения в обществе.
Очевидно, наглядевшись на лоцмана, несчастный беженец снова вскочил и на этот раз взял старт с большой ловкостью. Это был настоящий рывок рвача с места!
И вдруг мы с изумлением увидели, как наш беженец выскочил из самого себя, обогнал вначале на полкорпуса, на корпус, оторвался, и все более и более набирая скорость, ушел вперед, вперед, вперед...
— Не догонишь, гад! — орал тот, что убежал от самого себя, а тот, от которого убежали, орал вслед:
— Врешь, не уйдешь!
Глава LXIX. Я САМ
Все мы были жестоко потрясены картиной бегства от себя.
Тот, что вырвался, скрылся где-то за скалою, а ПОКИНУТЫЙ САМ СОБОЮ жалобно бежал, бежал, вдруг споткнулся, бедняга, упал, вскочил, заскулил, снова хлопнулся на землю замертво.
— Жив ли он?! О Боже! — вскричал старпом, и мы кинулись на помощь, стали поднимать. Я давно примечаю этот сердобольный идиотизм: поднимать упавшего, не разобравшись, в чем дело. Так и мы стали поднимать ПОКИНУТОГО САМИМ СОБОЮ, который, как ни странно, был вполне жив.
Он рыдал, размазывая по лицу пыльные реальные слезы.
— Я САМ от себя убежал, а другой Я САМ остался! Ужас! Ужас!
Я остался — и Я же убежал! Нет! Это невыносимо! Лучше застрелиться! Или повеситься? Отравиться — вот что надо сделать! Где курарэ? Где этот сильный яд-курарэ?! Где? Нет, но если Я отравлюсь, что же будет со МНОЮ УБЕЖАВШИМ? Помру или нет? Погоди, погоди, погоди. Подумай! Подумай! Подумай! Я — помру, а тот Я, ЧТО УБЕЖАЛ, останется жить! Значит — надо травиться! О БОги, БОги МОи! ЯДу МНе! ЯДу!
— Я интересуюсь, — встрял неожиданно лоцман Кацман, — а где деньги?
— А деньги тот Я САМ унес.
— Ну, возьмите еще целковый, — сказал Суер.
— Не надо! — вопил Покинутый. — Ничего мне теперь не надо! Ни денег, ни славы, ни почестей, ни богатства! Верните мне МЕНЯ САМОГО!
— Выпейте валерьянки, — предложил Пахомыч, — успокойтесь, может, он сам вернется?!
— Ну, конечно, жди! — корчился в рыданьях Покинутый. — Я САМ СЕБЕ так надоел, так мучил САМОГО СЕБЯ! Теперь я пуст! Кошмар!
Верните мне МЕНЯ САМОГО! Я теперь не Я! А кто Я? Я — САМ или НЕ САМ? От таких вопросов, ей-богу, башка может лопнуть! Ой, лопается башка! Как бочка! Обручей! Затылок отвалился! Виски упали до уровня подбородка! Я ОСТАЛСЯ и Я же УБЕЖАЛ!!!
— Успокойтесь, Покинутый собою, — сказал сэр Суер-Выер. — Пожалуй, большинство людей на свете иногда желает убежать от самого себя, но никогда никому этого сделать не удавалось. Вы — первый! Гордитесь!
— Действительно, это — сверхрекорд, — согласился Покинутый, — но установил-то его не Я, а ТОТ Я, который убежал! Я так себя хреново вел, что сам от себя убежал! Курарэ! Курарэ! Курарэ! Гдэ ведрэ курарэ???
Стакан курара! Вы не знаете, где растут бледные поганки? Подскажите адресок!
— Ты чего орешь? — послышался вдруг знакомый голос, и ТОТ Я, КОТОРЫЙ УБЕЖАЛ, высунулся из-за скалы.
— А что? — удивился Я ПОКИНУТЫЙ.
— Орешь, говорю, чего?
— Да как же мне не орать-то? Ты-то «Я» убежал!
— Вести себя надо было лучше, а то пил, как лошадь, воровал, попрошайничал, двоеженствовал, не платил алиментов, жил по поддельному паспорту, ночью поедал чужую сметану, обманывал маму!
— Вернись! Я буду лучше! Мне ведь ничего не надо, кроме тебя! Мне даже деньги предлагали, и я не взял! Мне только тебя нужно! Только тебя!
— Деньги? Какие еще деньги?
{96}— Целковый.
— И ты не взял?
— Не взял. — гордо ответил Покинутый.
— Вот все-таки дурак! Как был дураком, так и остался! Гордость заела! Бери, пока не поздно, да проси побольше, дубина стоеросовая! Тогда, может, и вернусь!
— Извините, господа и сэры, — обратился к нам Покинутый с поклоном, — тут этот «Я УБЕЖАВШИЙ» обещает вернуться, если денег подадите. Вы уж подайте Христа ради!
— Христа ради? — удивился Суер, вспоминая, видно, недавнюю нашу распрю. — Это уж ради примирения вас с самим собою. Впрочем, вот целковый.
— Маловато, сэр, — почесал в затылке Покинутый. — Боюсь, Я УБЕЖАВШИЙ не вернется. Погодите, я покричу. Эй! Тут дали целковый!
— Не, — отвечали из-за скалы, — не вернусь.
— Вертайся, хватит!
— Да ну тебя, дурака слабоумного, и просить-то толком не умеешь.
— Вернись же, вернись! Хочешь, я курить брошу?
— Да ну, ерунда, вранье, силы воли не хватит.
— И пить брошу, клянусь!
— А это еще зачем?
— А что, не надо?
— Пей, но в меру. Но главное — денег проси, иначе — не вернусь. Поеду в Мытищи, у меня там баба знакомая.
— Сколько же надо? — начиная раздражаться, спросил капитан.
— Эй ты, Я! — крикнул Покинутый. — А сколько надо?
— Бери червонец, за меньшее не вернусь!
— Вы слышали» сэры? Червонец!
— Прямо не знаю, — сказал капитан, — у кого из нас есть на червонец жалости? Может, у вас, старпом?
— Жалости много, — отвечал старпом, — а червонца нету. Пусть берет чистую жалость, бесплатно. Между прочим, в 1963 году моя жалость на черном рынке в тех же Мытищах кое-кому дорого обошлась.
— А вы, лоцман?
— Видите ли, сэр, — отвечал лоцман, оправляя галстук-бабочку в клеточку, — видите ли, сэр... видите ли, дорогой сэр... Конечно, вы видите, уважаемый сэр, что этот, с позволения сказать — чэловэк уже имеет два целковых, разделенных как раз поровну между частями особи. Одна часть особи, убежавшая, имеет еще и гривенник старпома, то есть неоспоримое преимущество. То есть мало того, что она убежала от самое себя, у нее еще и на гривенник больше. Предлагаю все-таки путь равенства и братства. Пусть убежавшая отдаст оставшейся пятак.
— У юнги денег нет, — сказал капитан сэр Суер и ласково поглядел на меня, — остаешься ты, друг, — в ласке зазвучала ирония. — Что ты скажешь, голубь? До сих пор ты подавал подаяние. Мы не рассматривали, что это за подаяние. Подаяние и подаяние. Что ты скажешь сейчас? Может, добавишь?
Я так и знал, что все это дело с нищими до особого добра не доведет.
Глава LXX. КАМЕНЬ, ЛОЖКА И ЧЕСНОК
— Прежде всего, кэп, — сказал я, — прежде всего: никто не имеет права анализировать подаяние. Кто что подал, то и подал. Меня, например, вполне устраивает открытый лоцман, щедрый капитан, разумный старпом. Что подал я — мое дело. Подаяние — и все! И привет! И пока! И до свиданья! Прошу отметить, что все были мною довольны и даже приговаривали: «Спаси Вас Господи!». Но если вас интересует, кому я что подал, могу сказать:
Древорукому — камень,
Пеплоголовому — деревянную ложку,
Нищему духом — головку чесноку.
Человеку, который убежал от самого себя, я тоже подал подаяние. Вы заметили? Это — небольшой кисет. По-моему, он так и не поинтересовался, что в кисете. Эй, любезный господин Покинутый, а где кисет, который я подал? У вас того, что убежал, или у вас того, что остался?
— У меня. Тот «Я» только деньги взял, а кисет, говорит, тебе оставлю. Кури!
— Загляните же в кисет.
— Черт-те что, — сказал Покинутый, развязав кожаную тесемку. — Махорка, что ли? Или нюхательный табак? Порошок какой-то. Надо понюхать.
{97}— Погодите, не спешите нюхать. Это — курарэ! Толченое курарэ! Здесь как раз хватит, понюхал — и... Вы, кажется, просили?
— Что это значит? — сказал Суер-Выер. — Ты знал, чем все кончится?
— Конечно, нет. Мне и в голову не приходило, что этот спектакль у них так здорово разыгран. И потом, согласитесь, выбежать из самого себя — это, действительно, редчайший случай. Но курарэ! Курарэ ведь может пригодиться в любом из вариантов: убежал или не убежал, а курарэ-то вот, пожалуйста! Тому, кто хочет убежать от самого себя, курарэ — хороший подарок.
— Но как ты истолкуешь камень, ложку и чеснок?
— Дорогой сэр! — отвечал я с поклоном. — Я уже и так не в меру разболтался. Камень, ложка и чеснок — предметы достойные. Их можно толковать как хочешь и даже сверхзамечательно. Я могу истолковать, но дадим же слово самому молчаливому. Пусть истолкует юнга Ю. У него нет денег, но есть некоторый, хоть и детский, но симпатичный разум. Прошу вас, господин Ю.
Тут юнга открыл было рот, но в дело неожиданно влез Покинутый сам собою.
— Погодите, господа, — сказал он. — Какой камень? Какой чеснок? Тут воссоединение вот-вот произойдет, а вы бог знает о чем толкуете. Давайте же скорей червонец, а то убежит, свинья такая!
— Слушай, помолчи, а! — сказал старпом. — Помолчи, потерпи.
— Что там происходит? — крикнул из-за скалы Бежавший.
— Хрен их поймет! Про чеснок толкуют. А мне яду дали.
— Чесноком не бери! А много ли яду?
— Да всего мешочек. Короче, полк солдат не отравишь, но на одного полковника хватит. А денег не дают.
— Ну ты хоть корчился в муках-то?
— Замучился корчиться. Такие судороги отмочил да железные конвульсии.
— Во жлобы какие приехали! Они что, из Парижа?
— Да вроде из Москвы, говорят.
— Эй вы, разбежавшиеся! Молчать! — гаркнул старпом. — Юнга, говори!
Разбежавшиеся приутихли, особенно этот, что остался, тот за скалой еще немного хорохорился, но на всякий случай заткнулся.
— Человеку с деревянной рукой — камень? — спросил юнга. — Я думаю, это просто. Скорей всего, точильный камень — точить стамески для резьбы по дереву. Пеплоголовому — ложку! Отметим, деревянную. Ему не хватало пеплу. Ложку можно сжечь — и пригоршня пепла налицо! Нищему духом — головку чесноку. Это тоже просто. Если он съест чеснок — духу не прибавится, зато появится запах. А запах, как известно, в некотором роде замена духу. Во всяком случае, ему вполне можно будет сказать: «Фу! Фу! Какой от тебя дух идет!» Довольны ли вы таким объяснением, господин мой?
— Вполне, — ответил я, рассмеявшись от всего сердца. — Это — шикарное объяснение. Оно мне, признаться, и в голову не приходило. Камень-то я дал довольно-таки тяжелый, это вместо гнета, чтоб на крышку давить, когда капусту квасишь, ложку подал в двух смыслах: суп есть и пеплом главу из нее посыпать, к тому же как напоминание о родной нашей России, ложка-то резана в окрестностях села Ферапонтова, а головку чесноку подал потому, что мне-то самому чеснок вреден, язва от него разыгрывается.
— Ха-ха! — деланно сказал капитан. — Это все вранье! Болтовня! Фиглярство. Все подаяния имеют глубокий философский смысл: камень — символ вечности, ложка — символ духовной пищи, чеснок — символ жизненной силы.
— Ну что ж, капитан, — сказал я, — вы — великий человек, вам и видней. Убежден, что вы сумели бы истолковать все что угодно, даже если б я подал нищим перо ветра и стакан тумана.
Глава LXXI. ПЕРО ВЕТРА
Не перо ли ветра коснулось мимолетно моей щеки, и все вокруг преобразилось?
Пронзительно зазвучало глубокодонное небо, золотым ободом изогнулся песок, косо встали к небу люди и кипарисы, все удалилось и замерло навеки. (Нет-нет, все двигалось по-прежнему: и волны набегали, и люди шевелили губами, и облака плыли, и пыль клубилась облаками, и чайка свистела крыльями, и падал Икар, и мышь бежала, но все равно ВСЕ замерло даже в этом движении.) И все стало пронзительно, ясно и вечно. И все не так, как за секунду до этого.
И уже совершенно не волновали ни червонцы, ни бегство от себя, ни эти несчастные, прости меня Господи, нищие!
{98}Перо ветра? Оно? Да! Оно! Оно свистнуло и овеяло наши лбы, рассыпало мысли, просветлило взор, прошептало запах детства. Вспорхнуло? Скользнуло? Пропало? Улетающее перо ветра?
Нет! Нет! Постой! Погоди! Не улетай так быстро!
Побудь еще на щеке, ведь ты важнее всего!
Пусть все так и стоит колом и косо, пусть движется, замерев.
Какое же это счастье — ясность в душе!
Господи! Спаси и сохрани всех страждущих, бегущих, блуждающих впотьмах, слепых детей своих, не ведающих, что ведают счастье!
Спаси их Господи, а мне... а мне...
— Ну что? Ну что тебе? Что?
— Пахомыч, друг! Стакан тумана!
— Да вот же он! Пей!
Я вдохнул залпом. Захлебнулся. Задохнулся. Помер. Ожил, помер, вздохнул, замер. Забился, огляделся вокруг.
Все так и стояло колом и косо, и солнце, и тени густые — ух! берлинская лазурь, твореное золото — и киноварь, киноварь, киноварь, с какого тебя дерева содрали?
— Туману, Пахомыч, туману! Я так и знал, что этот остров не доведет до добра! Туману же дай!
— Да вот же он! Пей!
— Туману! Туману! Туману! Чтоб ясность была!
……………………………………………………………………………………………..
— А что касательно червонца. Как видите, милостивый государь мой, отчего-то никто не дает!
— Сэры, сэры! Может быть, скинетесь? Людка, Боряшка, лименты.
— Да вы сами видите, у нас друг туману требует. Видимо — солнечный удар. Нам нужно срочно на корабль.
— Сэр! Последний трюк! Клянусь, этого никто не умеет делать! Я сейчас сойду с ума! Понимаете? Отделю от себя свой ум, вспрыгну на него, как на пирамиду, и по ступенькам, по ступенькам вниз, вниз, вниз...
— Не надо, — прорвался я, оглядывая стоящий колом мир и звук в нем, — не надо... вот червонец... с ума сходят все время и без пирамиды и ступенек... а этот убежавший пусть вернется. Только поскорее... червонец за то, чтоб мне не смотреть. Ясно? Закрываю глаза! Бери червонец.
Я закрыл глаза и почувствовал, будто перо ветра смахнуло монету с моей руки. Что-то шелестело, сипел песок, но я не открывал глаз, пока Пахомыч не сказал:
— Сошлися!
Перо ветра, конечно, улетело.
Нищие тянули руки. Суер раздавал червонцы. Я шел к шлюпке.
Глава LXXII. СТАКАН ТУМАНА
Ух, какое огромное облегчение почувствовал я, когда мы, наконец, отвалили от этого тяжелейшего острова. И матросы гребли повеселее, и Суер глядел в океан платиновым глазом, лоцман Кацман отирал просоленный морем лоб, Пахомыч споласкивал граненый стакан.
— Слушай-ка, Пахомыч, — сказал я, — откуда у тебя туман-то взялся?
— Туман у меня всегда при себе, — отвечал старпом, доставая из внутреннего жилетного кармана объемистую флягу (так вот что у него все время оттопыривалось! А я-то думал — Тэтэ!). На этикетке написано было «ТУМАН», 55 копеек: Т — трудноусвояемый, У — умственноудушающий, М — маральноопустошительный, А — абалдительный, Н — напитк.
— Напитк? — утомленно переспросил я. — А «О»-то куда подевалось?
— А «О», господин мой, вы как раз и выпили, находясь в состоянии помрачения. Не желает ли кто распить и остальные буквы?
— Можно, — сказал Суер. — Немножечко «А». Тридцать пять грамм.
— А мне «ЭН», — согласился и лоцман. — На два пальца.
— А вам, юнга?
Юнга промолчал. Он вообще как-то поник, замолк, иссяк.
— Что с вами? — ласково спросил старпом. — Нездоровится? Глоток тумана вполне поможет. Это проверено.
{99}— Я здоров, — отвечал юнга, — но немного расстроен. Дело в том, что там, на острове — мой бедный папа.
— Там? Папа? И вы промолчали?
— Растерялся... Да и вы были слишком заняты и этим бегством от себя.
— Что же теперь делать? — спросил Суер, оглядывая нас. — Возвращаться?
— Не обязательно, — сказал юнга, — я посмотрел на него, и достаточно.
— Но вы уверены, что это ваш отец?
— Конечно, сэр. Вот его портрет, всегда при мне, — и юнга достал из-за пазухи золотой медальон, на котором изображен был человек вроде бы с усами, а вроде бы и без усов.
— Не пойму. — сказал старпом, — с усами он или без.
— Вот это-то и есть главная примета, — отвечал юнга. — Мне и мама всегда говорила. Главная примета папы: так это не поймешь — с усами он или без.
— Надо возвращаться, —сказал капитан, — все-таки должен же сын поговорить с отцом, тем более с такою приметой. Дело за тобой, друг мой, — и капитан глянул мне в глаза, — в силах ли ты вернуться?
— Я не в силах, — отвечал я, — но и не вернуться тоже нельзя. Ненавижу этот остров, но потерплю. Пахомыч, друг, еще хоть полстакана.
Глава LXXIII. СИДЯЩИЙ НА МРАМОРЕ
Нашим возвращением островитяне были потрясены не меньше, чем крепдешином в небе.
Действительно, ведь так же не бывает: подающий подает, проходит мимо и обычно не возвращается. А тут вдруг вернулись. Да неужто целковые раздавать?
Не раздавая, однако, никаких целковых, ведомые медальоном, мы просекли строй нищих и подошли к мраморному камню, вокруг которого собрались особо грязные и жалкие собиратели подаяний. Они однообразно скулили:
— Подайте кто сколько может... Подайте кто сколько может...
На мраморном же камне сидел человек, который эту фразу, отточенную веками, трактовал иначе:
— Подайте, кто сколько НЕ МОЖЕТ.
Такой поворот идеи несколько обезоружил нас, и лоцман даже забормотал:
— Да как же так, ребе, откуда же мы возьмем?..
— Действительно, — поддержал я Кацмана, — скажите, равви, как это я МОГУ подать столько, сколько НЕ МОГУ?
— Очень просто. Рубль вы можете подать?
— Могу.
— А двадцать?
— Ну, могу.
— Без «ну», без «ну», дорогой благодетель,
— Могу, — сказал я, скрипя зубами,
— И без скрипенья зубов, пожалуйста.
— Пожалуйста, — сказал я, убрав скрипенье. — Вот двадцатка.
— Э, да двадцатку вы можете, а я прошу, сколько не можете.
— Это сколько же?
— Да я-то откуда знаю? Ну, скажем, сотню.
— Куда? Чего? Это уж вы хватили. Сотню... да я и денег-то таких в глаза...
— Ну, а если поднапрячься?
— Нет.
— А если дико-дико перенапрячься?
— Нет, нет и нет!
— А вы в глубину-то души загляните. Загляните и поглядите, чего там, в глубине-то вашей? Есть ли сотенка?
Повинуясь магнетизму, исходящему от этого человека, я заглянул в глубину своей души и нашел там, прости меня Господи, парочку сотен. Доставать их, конечно, не хотелось, но тогда чего я ввязался в эту философию?
— Могу, — сказал я. — Пару сотен могу, ко уж не больше.
— А тыщу?
— Ну, это уж вы вообще... откуда? Тыщу чего? Рублей? Пиастров?
— А если б ты все продал? — ввязался неожиданно лоцман Кацман. — Набрал бы, небось, тыщонку.
— Дружба с вами, лоцман, стоит значительно дороже, — обиделся я. — Вопрос: кто даст такие деньги?
{100}— Я не дам, — сказал капитан и развел нас с лоцманом мановением пальца. — Позвольте теперь и мне задать вопрос. Я прекрасно понял фразу: подайте, кто сколько НЕ может. В этом, наверно, и есть смысл истинного подаяния. Но — бывало ли такое? Подавал ли вам кто-нибудь? Получали ли вы просимое?
— Бывало, подавали, получал, — кратко ответил сидящий на мраморе.
— Часто?
— Примерно раз в два года.
— И что это за люди, подающие столько, сколько НЕ МОГУТ?
— Вполне достойные люди.
— Но все-таки: возраст, пол, образование?
— Всякий раз — это уникальный случай.
— Ну расскажите же, это так любопытно.
— В каждой профессии есть свои секреты, — усмехнулся сидящий на мраморе. — А потом, вы как будто из комиссии по расследованию. Приплыли на своем «Лавре», испоганили небо крепдешином, да еще рассказывай, кто мне сколько подает. Скажу одно: тот, кто слышит мою просьбу о подаянии, задумывается о своих возможностях, как умственных, так и морально-материальных. Все!
И сидящий на мраморе прикрыл очи.
— Нет, не все, — парировал вдруг Пахомыч. — У нас есть еще вопрос, очень и очень важный. А именно: нам бы хотелось знать, С УСАМИ вы или БЕЗ?
Глава LXXIV. УСЫ И НЕВОЗМОЖНОЕ
— А вы что ж, сами не видите?
— Видим. Но толком не разберем. То вроде бы с усами, то вроде — нет.
— В этом-то весь фокус, — улыбался сидящий на мраморе.
— Конечно, это фокус, — сказал Пахомыч, — но для чего он? Кому нужен такой фокус? Скажите же все-таки: С УСАМИ вы или БЕЗ?
— Если я скажу, что я БЕЗ, вы начнете спорить, что я С УСАМИ, так что я предпочту на ваш вопрос ничего не отвечать.
— Не понимаю, — сказал старпом, — почему бы точно не определиться и не заявить прямо: да, я — усатый, или: ладно — безусый. Вы как будто скрываете свои приметы. Вы что — в розыске?
— Ей-богу, ребята, — сказал Ложноусый, обращаясь к нищей братии, восседающей вокруг мраморного камня, — они из комиссии Огепеучека. Да ни от кого я не скрываюсь! Я — честный нищий! А с усами я или без усов — мое дело.
— Вы знаете, что мне кажется, сэр, — негромко сказал лоцман Кацман, обращаясь к нашему великому капитану. — Мне кажется, что усы у него растут чрезвычайно быстро, поэтому он их ежесекундно сбривает. Если бы не сбривал — они заполонили бы весь земной шар.
— Ерунда, — сказал Пахомыч, — он — скрывается. Прячется на этом острове нищих. Прячется от ответственности. Вы же сами понимаете, что среди нищих спрятаться легче всего. Это старый прием всех мошенников — притвориться нищим. А фокус с усами — это полная чепуха, иллюзион. Вы смотрите, как он часто чешет нос. Почешет разик — он с усами, почешет другой — без усов. Усы у него из рукава выскакивают. На резиночке.
Пахомыч до того твердо долбил свое, что нам даже стало за него неловко. Твердолобый получался у нас старпом. Идея лоцмана была, конечно, тоньше и глобальней, имела исторические корни.
— Усы на резиночке и просьба подать невозможное как-то не вяжутся между собой, — сказал капитан. — Философия и примитив в одной упряжке.
— Может, может, — долбил Пахомыч. — Абсолютный примитив и в том, и в другом случае. Сплошная трусость и самореклама. Обман.
Сидящий на камне внимательно прислушивался к нашему разговору.
— Это просто удивительно, — сказал, наконец, он, — насколько тонок и умен ваш лоцман и какой дубовый старпом. Ну зачем, скажите на милость, мне скрываться? От кого? От чего?
— Дуб? — переспросил Пахомыч. — Я — дуб? А вы тряхните рукавом, и желательно на лоцмана.
— Не стану я тресть, чего ради?!
— Ради усов, которые в рукаве прячутся!
— Да нету там никаких усов.
— Ага! Сдрейфил! Подайте ему НЕВОЗМОЖНОЕ! Ишь какой обормот!
— Это я-то трус? Да пожалуйста! Где ваш лоцман?
{101}И тут сидящий на мраморе взмахнул руками, и на лоцмана посыпались самые невероятные предметы, ну во-первых: куриные косточки, а во-вторых: таблетки от алкоголизма, кнопки, колготки, клизмы, розетки, зажигалки, резеда, мастихин, мормышка, штопор-открывалка, папка, две кисточки и к ним акварель.
Но надо твердо отметить, что усов среди этого никаким образом не было.
— Ну что скажете? — воскликнул Ложноусый. — Где же усы? Ха!
— Я не знаю, где вы прячете усы, — угрюмо сказал старпом, — но что вы скажете на это, гражданин хороший?
И старпом предъявил Врядлиусому золотой медальон, который юнга сдал ему на хранение.
Глава LXXV. КАК БЫЛО ПОДАНО НЕВОЗМОЖНОЕ
— Что это? Что это? Что это? — побледнел Псевдобезусый. — Откуда? Откуда?
— Ага! Приперли к стенке! — воскликнул старпом. — Вот от чего ты скрываешься, паскуда! От уплаты алиментов! А вот и сынишка, которого ты бросил, а я подобрал. Пою, кормлю и воспитываю! Вот тебе НЕВОЗМОЖНОЕ прямо в харю!
И старпомыч выпятил юнгу из нашей среды под нос мраморному камню.
Надо сказать, что мы никак не ожидали, что Пахомыч расхамится до такой степени. Но, видно, этот остров подействовал ему на нервы, как и всем нам. Мы не стали спорить, кто кого кормит и воспитывает, а просто наблюдали за продолжением действия. Впрочем, для наблюдений особой пищи не было.
— Папа! — шепнул юнга.
— Сынок, — прослезился Усопятый. — Как там мама?
— Сам не знаю.
— Неужели все так же сидит?
— Сидит, а чего ей еще делать?
— А ведь многие кто где сидит.
— Отойдем в сторону, — сказал Суер-Выер, — не будем мешать. В душе у них происходит больше, чем на словах.
— Но на словах тоже кое-что произошло, — упрямился старпом. — Пусть алименты гонит! Ничего не дает на сына. Зачал — и пропал в тумане.
— Да что вы, старпом, — сказал капитан. — Что он даст? Он-то не может подать, сколько НЕ может. Болтовня ведь одна.
К этому моменту у юнги с папашей нарос уже в душе большой ком идей, чувств и мыслей.
— Сэр! — обратился к капитану Антибезусый. — Подайте же мне столько, сколько НЕ можете. Возьмите меня на корабль.
— Я? На корабль? На какой?
— На «Лавра Георгиевича».
— И вы считаете, что я этого НЕ могу? — засмеялся капитан. — Это я как раз МОГУ.
— Сэр, я тоже прошу, — потупился юнга. — Нам жалко расставаться.
— Я бы взял вашего папашу, — строго сказал капитан, — да боюсь, что боцман Чугайло каждое утро будет подавать ему столько, сколько НЕ может! Он у нас умеет превзойти самого себя.
— Сэр!
— Вот вам рубль, юнга. У вас, как известно, нет ни гроша. Берите этот рубль и выполните просьбу нищего. Подайте, сколько НЕ можете.
Юнга поклонился, принял рубль и передал отцу.
Лжеусый печально подкинул монету в небо, поймал, поглядел и протянул старпому.
— Орел! — сказал он. — Алименты. Купите мальчику фруктов.
Глава LXXVI—LXXVII. МАДАМ ФРЕНКЕЛЬ
Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в свое одеяло.
— Это становится навязчивым, — недовольно шепнул мне наш капитан сэр Суер-Выер.
— А чем ей, собственно, еще заниматься? — сказал я. — Делать-то больше нечего.
{102}— Могла бы вязать, — предложил Кацман, — или штопать матросам носки, все-таки хоть какой-то смысл жизни.
— Штопать носки! — воскликнул Суер. — Да кто же согласится на такой смысл жизни?!?!
— Есть люди... штопают, — задумался Пахомыч, вспоминая, видно, родное Подмосковье. — Штопают и шьют... но, конечно, не на такой разболтанный экипаж! — и Пахомыч в сердцах грохнул кулаком по крюйт-камере.
— Чего она тогда вообще с нами увязалась? — сказал Кацман. — Куталась бы на берегу!
— На берегу многие кутаются, — сказал я. — На берегу кутаться не так интересно. Другое дело — океан, «Лавр», свобода! Здесь все приобретает особый звук, значение, прелесть! На берегу на нее и вниманья никто бы не обратил, а здесь мы каждое утро прислушиваемся: как там наша мадам, кутается ли она в свое одеяло?
— Я вообще-то не собирался прислушиваться ко всяким таким делам, — поморщился Суер, — и вообще не хотел брать ее в плаванье. Мне ее навязали, — и капитан нелицеприятно посмотрел мимо меня куда-то в просторы.
— Вы смотрите в просторы, капитан, — сказал я, — но именно просторы подчеркивают всю прелесть этого бытового и теплого смысла жизни. Огромная хладная мгла — и маленькое клетчатое одеяло. Я ее навязал, но навязал со смыслом.
— И все-таки, — сказал Суер-Выер, — мадам — не очень нужный персонаж на борту. На острове Уникорн она, конечно, сыграла свою роль, а в остальном...
— Я не согласен с вами, сэр, — пришлось возразить мне. — Она сыграла свою роль, когда впервые закуталась в свое одеяло. Впрочем, если хотите, выкиньте ее вместе с одеялом.
— Не надо, — покачал головой старпом. — Пускай себе кутается. Кроме того, она и носки мне штопала пару раз. А вам, лоцман?
— Да что там она штопала! — возмущенно воскликнул лоцман. — Подумаешь! Всего один носок! И то он на другой день снова лопнул!
— Лопнул?
— Ну да, кэп, — заныл лоцман. — У всех рвутся, а у меня лопаются.
— Заклеивать их никто не обязан, — сказал капитан. — Но если у всех рвется, а у вас лопается, то и мадам имеет право на собственный глагол.
И мадам, надо сказать, Френкель сей же секунд не преминула воспользоваться своим глаголом, то есть еще плотнее закутаться в свое одеяло.
Глава LXXVIII. ОСТРОВ ОСОБЫX ВЕСЕЛИЙ
Остров, к которому мы подошли поздним июльским вечером, показался нам уже открытым.
— Какой-то у него слишком уже открытый вид, — раздумывал Кацман, — сильно на остров Валерьян Борисычей смахивает. К тому же и долгота, и широта совпадают, а вот воркута...
— Что воркута? — недовольно спросил капитан.
— Воркута не та, — сказал лоцман. — Это другой остров. Ну что, кэп, будем открывать?
— Не тянет, — честно сказал Суер-Выер. — Жаль, что по воркуте не совпадает. После острова нищих я новых островов побаиваюсь, во всяком случае острова особых веселий не жду.
— Видна какая-то сараюха, вроде бунгало, — сказал Пахомыч, разглядывая остров в дальнобитное пенснэ, — заборчик, садик, лупинусы. А вдруг, сэр, там за заборчиком особые веселия? А? Я знал в Тарасовке один заборчик. Похож!
— Участок в шесть соток, — сказал капитан. — Знакомая картина...
Мы сошли на берег, открыли остров и прямиком направились к сараюхе-бунгало. Постучались — внутри молчок. Заглянули в дверь — елки-палки! Веселия! Повсюду на шкафах и столиках стояли разные веселия:
виски, пиво-помидоры, индейка в банке, водка, спелые дыни и ахмадули, фисташковые фишки, маринованные полубакенбарды, вилы рубленые, фаршированные бахтияры, соль, куль, фисгармонь.
У стенок имелись две по-матросски заправленные опрятные койки. У каждой — тумбочка, на ней графинчик, бритвенный прибор в граненом стакане.
Над подушками — фото родителей и девушек «Привет с курорта». Висели и фотографии самих койковладельцев: на одной — бравый летчик и надпись «Над {103}родными просторами», на другой вытянулся во фрунт гвардеец, вокруг которого вилась надпись «Отличник боевой и политической подготовки»,
— Веселия! — воскликнул лоцман. — Но где же хозяева?
— Видно, вышедши, — молвил Пахомыч, — Можно бы выпить пару пива за их счет, да фрукты на фото унылые, такие могут и по шее накостылять.
Мы вышли из сараюхи, побродили по лупинусам и уже отправились к шлюпке, как вдруг услышали позади:
— Эй, мужики, вы кого ищете?
Из бунгало выглянул низенький плотный господин с очень и очень грязным лицом. За ним виднелся и второй мордастый, с харею никак не чище первой,
— Мы ничего не ищем, — крикнул в ответ лоцман. — Мы просто открываем новые острова. Хотели было ваш остров открыть, да хозяев не нашли.
— А мы-то думали, что вы каких-то особых веселиев ищете.
— Да нет, мы веселий не ищем, мы только острова открываем.
— А то, если вы веселиев, так мы можем устроитью
— Да не надо нам никаких веселий, мы просто острова открываем, хотели было ваш остров открыть, да хозяев не нашли.
— А нас дома не было.
— Мы стучались, а в доме — пусто.
— Э-ке-ке! — засмеялись грязномордые. — Конечно, пусто. Мы ведь только что из подпола выползли. Заходите рюмку осушить.
Глава LXXIX. ОСУШЕНИЕ РЮМКИ
Рюмку осушить нам всегда хотелось, но с этими господами не тянуло.
— На язву, что ль, сослаться? — шепнул лоцман.
— Вы там на язву-то особо не ссылайтесь, — крикнули гряземордые. — Идите знакомиться и рюмку осушать. А не пойдете — устроим особыя веселия!
— Нас, в конце концов, четверо, — шепнул лоцман, — а их — двое. Справимся в случае чего.
— Вы ошибаетесь, — сказал Суер. — Их — двое, а нас — ни одного. Но рюмку осушать придется. Как бы только вместе с рюмкой не осушить и другого.
— Чего же, сэр?
— Осушается в принципе все, — сказал капитан. — И особенно — души.
Мы вернулись к сараюхе, стали знакомиться.
— Жипцов, — представился один.
Другой:
— Дыбов.
— Жебцов или Жопцов? — спросил вдруг лоцман.
— Жип... Понял меня? Жип.
— Понял, понял, — струсил Кацмак.
— Ну... надо... рюмку осушать, — туго проворотил Дыбов, — Сейчас мы морды вымоем, а вы пока разливайте.
Я взялся за разлив водочки по рюмкам — для меня это привычное и приятное дело — и благородно разлил по семьдесят пять, не промахнувшись, надеюсь, ни на миллиграмм.
— Розлито профессионально, — одобрил Жипцов. — По булькам льет. Ты не с Таганки?
— Эх, Жипцов-Жипцов. — ответил я. — Рюмочную в Гончарах помнишь?
— Э-ке-ке! — засмеялся Жипцов, — Слышь, Дыбов, это свои, да к тому же еще живые. Давай селедочки с картошкой отварной.
Дыбов начистил картошки, разделали пяток селедок с молоками, лук, постное масло, выпили. Я тут же налил по сто,
— Ну — таганская школа! — восхищенно сказал Жипцов, — Все по норме.
И я тут же налил снова по семьдесят пять.
— Все, керя, — сказал Жипцов, — с тобой все ясно. Лей под беседу.
— Это уж кому как по ндраву, — согласился Дыбов,
Выпив и помывши морду, Дыбов несколько оттаял, и на нас смотрел уже помягче, всасывая длинную бело-розовую селедочную молоку. Надо отметить, что, несмотря на довольно усердное отмывание морд, ни Жипцову, ни Дыбову отмыть их до конца как-то не удалось.
— Ну у тебя и кожа на роже, — сказал я Жипцову на таганских правах. — Дурьскипидаром ее надо мыть или кашинской минеральной.
— Мыли, — гнусно сказал Дыбов. — Это — профессиональное.
{104}— Что же это у вас за профессия такая? — робко полюбопытствовал Кацман. — Не шахтерская ли?
— Э-ке-ке! Ке-ке! — засмеялся Жипцов. — Слышь, Дыбов? Ты шахтер?
— Навроде шахтера, — выпил Дыбов, всасывая другую молоку, еще розовей и белей первой. — Я скорее навалоотбойщик.
— Э-ке! Э-ке! — икал своим дурацким смехом Жипцов. — У него только забоя нету, один — отбой.
— Все-таки нам немного непонятно, — сказал сэр Суер-Выер, — кто вы по профессии. Ясно, что вы смеетесь над нашим незнанием. Наверно, это секретная специальность?
— Да нет, что ты, — отвечал Жипцов, — никакого особого секрета нету. Специальность необычная, но хорошо платят, а вот этот домик на острове — вроде нашего дома отдыха, все бесплатно, тут мы с Дыбовым и отдыхаем.
— И какая же у вас работа?
— Нелегкая, керя, непростая... мертвецов допрашиваем... прямо в могилах.
— Вот так-с, — подвел итог капитан. — Вот до чего нас доводит неуемная жажда открывания новых островов.
— А также осушение рюмки, сэр, — добавил Пахомыч.
Глава LXXX. РЮМОЧКА ПОД БЕСЕДУ
Пожалуй, мы не так уж сильно были потрясены странным объявлением Жипцова и, возможно, даже предполагали, что такие профессии существуют, но столкнуться с ними не ожидали и думать об этом не решались.
— И что ж, всех-всех допрашиваете? — спросил лоцман.
— Э-ке-ке! — засмеялся Жипцов, и беседа потекла плавно, осушение рюмки совершалось исправно, и я наливал уже то по пятьдесят, то по тридцать. По таганским законам пустые бутылки ставил на пол.
— Да нет, не всех, — рассказывал Жипцов, — а только кого Жилдобин прикажет. Жилдобин у нас начальник. Как прикажет — мы и ползем, я спрашиваю, а уж Дыбов старается.
— Как же это ползете? — невольно удивился старпом. — Отсюда?
— А чего? Прямо отсюда и ползем. Через этот погреб.
— Так вода же кругом! Океан!
— Э-ке-ке! — засмеялся Жипцов. — Под окияном тоже мать-сыра-земля. Под окияном и приползем — хушь в Мытищи, хучь — в Таганрог. Мы на это скорые. Конечно, далеко ползть бывает неохота, но — приходится. Мы-то больше по Расее ползаем, у нас там все свои входы и выходы.
— Приползем, — вставил Дыбов, — и рачительно... спрашиваем, это кого Жилдобин укажет... А ему-то сверьху говорят.
— Кто же сверху-то?
— А это кто про нас на бумагу записывает, — пояснял Жипцов. — Кто-то — не знаю фамилие — записывает все и про тебе, и про мене. Вот ты, скажем, скрал или задавил кого — все записано, или заложил кого — опять записано. Про нас все пишется. После бумаги эти, как водится, обсуждают, протрясают, кому чего и как, и Жилдобину — приказ. А уж он нас наставляет, куда ползть и о чем спрашивать. Так что мы заранее знаем, за кем что числится. Некоторые дураки и в могиле отнекиваются, мол, я не я и кобыла не моя, но тут уж Дыбову равных нет, старый кадр — афгангвардеец.
— Да я это, — провещилея Дыбов, — так-то ничего... ну, а если, так чего ж? Надо... Осушение рюмки тоже ведь... все по традициям... молоки сладкие...
— Значит, людям и в земле покоя нет, — задумался старпом.
— Э-ке! Да разве это люди? Ты служи старательно! Пей в меру, докладай, когда чего положено. А то зачали храмы рушить да не свое хватать, а после и думают, в земле спокой будет. Нет, не будет и в земле спокою.
— Да ладно тебе, — сказал Дыбов, — чего там... ну всякое бывает... вот только селедок с тремя молоками не бывает... но, конечно, на то мы и приставлены, чтоб следить во земле... а без нас какой же порядок?..
— Скажите, пожалуйста, господа, — печально проговорил сэр Суер-Выер, — ответьте честно: неужели за каждым человеком чего-нибудь и водится такое, о чем допрашивать и в могиле надо?
— Да нет, — успокоительно мигнул Жипцов. — Иной, если сознается и греха невеликие, так просто — под микитки, в ухо — и валяйся дальше, другому — зубы выбьешь. Бывают и такие, которым сам чикушку принесешь, к {105}самым-то простым нас не посылают, там другие ползут. Там, у них, своя арифметика. Чего знаем — того знаем, а чего не знаем... про то... но бывает, и целыми фамильями попадаются, прямо косяком идут: папаша, сынок, внучик, а там поперли племяннички, удержу нет, и все воры да убивцы. А сейчас новую моду взяли: гармонистов каких-то завели. Ужас, к которому ни пошлют — гармонист.
— Много, много нынче гармонистов, — подтвердил и Дыбов. — Ух, люблю молоки!
— Но это не те гармонисты, что на гармони наяривают да частушки орут, а те, что гармонию устраивали там, наверху. Нас-то с Дыбовым ко многим посылали... мы уж думали, кончились они, ан нет, то тут, то там — опять гармонист.
К этому моменту разговора мы осушили, наверно, уже с дюжину бутылок, но и тема была такая сложная, что хотелось ее немного разнообразить.
— Стюк-стюк-стюк-стюк... — послышался вдруг странный звук, и мы увидели за стеклом птичку. Это была простая синица, она-то и колотила клювиком об стекло.
— Ух ты! — сказал Дыбов и залпом осушил рюмку.
— Ну вот и все, кореша, — сказал и Жипцов, надевая кепку. — Спасибо за конпанию. Это — Жилдобин.
— Это? — дрогнул лоцман, указывая на синицу.
— Да нет, — успокоил Жипцов. — Это — птичка, от Жилдобина привет.
— Рожу зря мыли... — ворчал Дыбов, — морду скребли... Ладно... — и они прямо с табуретов утекли в погреб.
Глава LXXXI. БЕСКУДНИКОВ
— Ну вот и открыли островок, — мрачно констатировал Суер. — Вот с какими упырями приходится пить.
— Бывало и другое, кэп, — сказал я. — Бывало, чокались и с их клиентами.
— Чу! — сказал Пахомыч. — Чу, господа... прислушайтесь... из погреба.
Из-под крышки погреба, которую Жипцов с Дыбовым второпях неплотно прикрыли, слышались односложные железные реплики, судя по всему, указания Жилдобина. Речь шла о каком-то, который многих угробил, потом говорилось, как к нему подползти: «...от Конотопа возьмете левее, увидите корень дуба, как раз мимо гнилого колодца...», слышно было неважно, но когда Жипцов дополз, стало все пояснее. Слушать было неприятно, но...
— Ну и ты что же? — спрашивал Жипцов, чиркая где-то далеко спичкой и закуривая. — Всех-всех людей хотел перебить?
— Всех, — отвечал испытуемый. — Но не удалось.
— А если б всех уложил, к кому бы тогда в гости пошел?
— Нашли время по гостям ходить. Уложил бы всех и сидел бы себе дома, выпивал, индюшку жарил. Но вот видите, не успел всех перебить. Расстреляли, гады. Лежу теперь в могиле, успокоился.
— Э-ке-ке, — сказал Жипцов. — Неужто наверху еще расстреливают? А я и не знал. Но тебе это только так кажется, что ты успокоился. Вслед за мною-то ползет Дыбов.
— А что Дыбов?
— Ничего особого... Дыбов как Дыбов... Как твое фамилие-то? Ваганьков? Востряков? Ага... Вертухлятников... так вот, господин Вертухлятников, за ваши прегрешения и убиения живых человеков, а убивали вы и тела, и души в районах Средней Азии и Подмосковья — вам полагается разговор с господином Дыбовым... Толя? Ты чего там? Ползешь?
— Да погоди, — послышалось из недр. — Тут одному попутно яйцо нафарширую... а кто там у тебя?
— Да этот, по бумагам Вертухлятников...
— Ты его пока подготовь, оторви чего-нибудь для острастки...
Вдруг там под землей что-то захрустело, заклокотало, послышался грохот выстрела и крик Жипцова:
— Брось пушку, падла, не поможет!
— Чего там за шум? — спросил Дыбов.
— Да этот в гроб с собой браунинг притащил, отстреливается... да в кого-то из родственников попал, а тот — повешенный... умора, Толик! Ползи скорей, поглядишь.
— Погоди, сейчас венский кисель закончу, а ты червяков-то взял?
— Взял,
{106}— Да ты, небось, только телесных взял. А задушевных взял червяков?
— С десяток.
— Напусти на него и на его потомство,
— На потомство десятка не хватит,
— А брал бы больше. С тобой. Жипцов, выпивать только хорошо, а работать накладно. Все самому делай. Ты только допрашиваешь, а мне — в исполнение приводи. В другой раз побольше бери задушевных червяков, а также сердечно-печеночных, херовых-полулитровых, аховых, разболтанных, пердоколоворотных по полсотни на клиента, по два десятка для потомства по линии первой жены, два десятка по линии потомства последней жены, по десятку на промежуточных, если таковые имеются...
— Моя фамилия Бескудников! — взвыл вдруг испытуемый. — Бескудников! Я лег вместо Вертухлятникова! Не я убивал! Он! Дал мне по миллиону за кубический сантиметр могилы! По миллиону! Ну, я и взял! А он-то еще по земле ходит!
— Что ж ты, падла, и под землей прикидываешься? Слышь, Дыбов! Это — Бескудников. Что там про него записано?
— Погоди... — послышался тяжкий вздох Дыбова. — Передохну... мне тут такая сволочь попалась, жалко, что его не сожгли, прошел бы по молекульному ведомству, сунули бы в бонбу... Бескудников, говоришь? А-а. Его тут давно ждут. Большая гадина. Что говорит — все врет. Он родился в тысяча девятьсот...
— Хватит, — сказал вдруг наш капитан сэр Суер-Выер и захлопнул крышку погреба. — Открыли остров, но закроем люк. Думаю, что все эти беседы под землей проходят однообразно и кончаются одинаково,
— Пора на «Лавра», — сказал старпом. — Хочется напоследок осушить еще рюмочку, да не знаешь, за чье тут здоровье пить. За хозяев как-то не тянет.
— Можно выпить за здоровье лоцмана, — предложил вдруг я.
— За меня? — удивился Кацман. — С чего это? Почему? Это что — намек на что-нибудь? Зачем ты это сказал?? Нет нет-нет! Не надо за меня пить!
— Ну ладно, — сказал я, — выпьем тогда за старпома.
— Что же это ты так сразу от меня отказываешься? — обиделся Кацман. — Сам предложил — сразу отказался. Так тоже не делают.
— Ну давай вернем тост, выпьем за лоцмана. — Да не хочу я, чтоб за меня пили! С чего это?!
— Слушай, — сказал я, — скажи честно, чего ты хочешь?
— Молоки селедочной, — сразу признался Кацман. — Бело-розовой. Да ее всю Дыбов засосал.
Глава LXXXII. ЛИК «ЛАВРА»
Средь сотен ошибок, свершенных мною в пергаменте, среди неточностей, нелепостей, умопомрачений и умышленных искажений зияет и немалый пробел — отсутствие портрета «Лавра Георгиевича».
То самое, с чего многие описатели плаваний начинают, к этому я прибегаю только сейчас, и подтолкнули меня слова нашего капитана:
— Что-то я давно не вижу мичмана Хренова.
— Да как же, сэр, — ответил старпом. — Вы же сами сослали его за Сызрань оросительные системы ремонтировать.
Капитан в досаде хлопнул рюмку к попросил призвать мичмана поближе, а я решился немедленно все-таки описать наш фрегат. Верней, совершить попытку невозможного, в сущности, описания.
Как всякий парусный фрегат, наш любимый «Лавр Георгиевич» был статен, величав, изыскан, фееричен, призрачен, многозначен, космично-океаничен, волноречив, пеннопевен, легковетран, сестроречен и семистранен. Никогда и никто и никаким образом не сказал бы, глянув ка «Лавра Георгиеврхча», что это — создание рук человеческих. Нет! Его создало все то, что его окружало — океан, небо, волны и облака, ветер и альбатросы, восходящее солнце и заходящая луна, бред и воображение, явь и сон, молчание и слово. Даже паруса или полоски на матросских тельняшках были его авторами никак не менее чем человек, который в эту тельняшку вместительно помещался.
И в лоб, и анфас, и в профиль наш фрегат смотрелся как необыкновенное явление природы и вписывался в наблюдаемую картину так же естественно, как молния в тучу, благородный олень — в тень далеких прерий, благородный лавр — в заросли катулл, тибулл и проперций.
Три мачты — Фок, Грот и Бизань, оснащенные пампасами и парусами, во {107}многом определяли лик «Лавра» и связывали все вокруг себя, как гениальное слово «ДА» связывает два других гениальных слова — «ЛЕОНАРДО» и «ВИНЧИ».
Тремя главнейшими мачтами облик «Лавра», однако, не исчерпывался.
Если капитан хотел кого-то наказать, он ссылал куда-нибудь на сенокос или на уборку картофеля именно за Бизань, а если этого ему казалось мало, ставил тогда за Бизанью дополнительную мачту — Рязань, а если уж не хватало и Рязани, ничего не поделаешь — Сызрань.
Высоту мачт с самого начала мы решили слегка ограничить, могли их, конечно, удлинить, но до каких-то человеческих размеров, ну, короче, не до страто же сферы. Что до подводной части, тоже немного играли — туды-сюды, чтоб на рифы не нарваться. Вот почему ватерлиния все время и скрипела. Ну да мы ее смазывали сандаловым спиртом, мангаловым мылом, хамраями, шафраном и сельпо.
— Ну так что там Хренов? — спросил капитан. — Почему не видно его?
— Никак не может из-под Сызрани выбраться, — доложил старпом. — Дожди, дороги размыло, грязи по колено.
— Ну ладно, — сказал наш отходчивый капитан. — Разберите пока что Сызрань, а заодно и Рязань, только Бизань не трогать.
Матросы быстро выполнили все команды, и мичман Хренов оказался в кают-компании, весь в глине, небритый, в резиновых сапогах.
— А восемь тыщ они мне так и не отдали, — сказал он неизвестно про кого, но, наверно, про кого-то под Сызранью.
Глава LXXXIII. НЕКОТОРЫЕ ПРЕРОГАТИВЫ БОЦМАНА ЧУГАЙЛО
После острова особых веселий капитан наш не хотел открывать ничего нового.
— Утомление открывателя, — объяснял он, полулежа в креслах. — Повременим, передохнем, поплаваем вольно.
Но поплавать вольно нам особенно не удавалось, потому что все время мы натыкались на острова самые разнообразные, как в прямом, так и в переносном смысле.
Ну вот, скажем, в прямом смысле наткнулись мы на остров, на котором двигательную любовную энергию превращали в электрическую.
— Это что ж, половую, что ли? — спросил вдруг тогда боцман Чугайло.
— Да что вы, ей-богу, боцман, — недовольно прервал старпом. — Сказано двигательную любовную — и хорош!
Да, так вот у каждого домика там, на этом острове, стоял врытый электрический столб, на котором висел фонарь. Кой-где фонарики светились вовсю, где тускло мерцали, а где и не горели вовсе.
— Это уж такой практицизм, что дальше некуда, — неудовольствовал сэр Суер-Выер. — Нет для них ничего святого. Не стану открывать этот остров.
— Но все-таки, капитан, — допытывался изящный в эту минуту лоцман, — если б вы открыли остров, то в какой бы домик вошли?
— Где фонари горят! — влез неожиданно боцман Чугайло. — Чтоб горели ярче! Люблю свет! Долой тьму!
— Боцман! — прикрикнул старпом. — Замри!
— Да нет, мне просто интересно, — оправдывался Чугайло, — как они ее превращают, системой блоков или приводными ремнями?
— А я бы пошел туда, где не горит, — внезапно сказал мичман Хренов.
— Это еще почему же? — спросил Суер.
— Объясняю, кэп. Там, где не горит, там скорей всего выпивают. Выпили бы по маленькой, и фонарик зажгли.
— Эх, молодость, — отвечал на это сэр Суер-Выер. — Как для вас все просто, все ясно. А ведь настоящая любовь должна мерцать... манить издали, внезапно загораться и снова тлеть, то казаться несбыточной, то ясной и доступной... как светлячок... звездочка... бабочка...
Сэр Суер-Выер слегка размечтался, в глазах его появилось было... впрочем, ничему особенному появиться он не позволил.
— Остров открывать не будем, — твердо сказал он. — Я вовсе не уверен, что мы кому-нибудь там нужны. Да нас просто-напросто и на порог не пустят.
— Эх, жалко! — плюнул боцман. — А мне так хотелось ну хоть бы часть своей половой энергии превратить в электрическую.
А потом попался нам остров ведомых Уем.
Вошли в бухту, шарахнули по песку салютом, вдруг — на берег вылетают с {108}десяток непонятных каких-то фигур. Вроде люди как люди, а впереди у них что-то вроде пушки на колесах приделано.
— Вы кто такие? — они орут. — Откуда?
— А вы-то кто? — боцман в ответ орет.
— А мы — ведомые Уем.
— Чего-чего? — говорит боцман. — Ничего не ясно! А это, что за штука, впереди-то у вас приделана?
— А это и есть — Уй! — островитяне орут. — Куда прикажет — туда и бежим.
— Неужто удержаться не можете?
— Не можем.
— Капитан, — недовольно сказал тут лоцман, — почему вы отдали боцману прерогативу разговора с этими ведомыми Уем?
— Да пусть берет себе эту прерогативу, — сказал капитан. — Мне еще только этой прерогативы не хватало.
— Эй, ребята, — орал по-прежнему боцман, держа свою прерогативу. — А почему Уй-то ваш вроде пушки?
— Да как почему? Стреляет!
Тут какой-то из Уев на берегу заволновался, куда-то нацелился, и вдруг все островитяне унеслись вскачь, ведомые своими уями.
— Уй-ю-юй! — кричали они.
Все это напомнило мне весенний московский ипподром, гонку орловских рысаков на таратайках.
Короче, и этот остров сэр Суер-Выер решил не открывать.
— Не понимаю, в чем дело, сэр, — сказал я. — Я бы все-таки открыл этот островок, немного пообщался с туземцами.
— Тебе-то это зачем?
— В интересах пергамента. Все-таки остров ведомых Уем, это могло бы привлечь к пергаменту внимание прессы и пристальный общественный интерес.
— А вдруг да под прицелом этих чудовищ окажется кто-нибудь из экипажа или, не дай бог, сам фрегат, разнесут же в щепки своими Уями.
— Да что вы говорите! Помилуйте, сэр! Фрегат вряд ли может быть предметом любопытства такого рода.
— Кто знает, друг, — ответствовал капитан. — Я все должен предусмотреть. Лично я встречал человека, которого приводила в неистовство выхлопная труба немецкого автокара «Мерседес-Бенц».
— Под газом или без? — спросил неожиданно боцман Чугайло.
— Старпом, — ответил на это капитан, не глядя на боцмана, — мне кажется, что боцман слишком уж растягивает данные ему прерогативы. Этот остров мы уже миновали, ну, а следующий... следующий пусть открывает боцман Чугайло.
Глава LXXXIV. ОСТРОВ БОЦМАНА ЧУГАЙЛО
— Я? Мне?!?! За что? — немедленно подпрыгнул боцман. — Зачем это мне нужно что-то открывать? Хватит с меня сухой груши! Набегался вдоволь!
— Да нет, боцман, не волнуйтесь, — сказал капитан. — Сухая груша — это была просто шутка. А тут уж мы подберем остров вам по нраву, по душе. Вы только подумайте и скажите, какой бы вам остров хотелось открыть. Может быть, вам понравился какой-нибудь из уже открытых нами островов?
— Что? — завопил боцман, боднув полубак. — Понравился?! Да провались они, все ваши острова! Видал я их!
— Ну а какой бы остров вам хотелось?
— Кому? Мне? А вы что, позволите?
— Позволим.
— Открыть самому?
— Ну, конечно.
— По рукам?
— По рукам.
— Прекрасно, — сказал боцман. — Давайте мне остров сокровищ.
— Гм... — гмыкнул сэр Суер-Выер. — Гм... но ведь неизвестно, на каком из островов зарыто сокровище. Вон, скажем, виднеется какой-то остров, но кто скажет, есть на нем сокровище или нет? Неизвестно.
— Вон на том, что ли, где стоит этот развалившийся сарай и баба сено огребает? На этом? Уж на этом-то ясно, что нету.
— Это почему же? А вдруг под сараем зарыто сокровище?
{109}— Под сараем? — вытаращился боцман. — Под тем сараем?
Он тупо глядел то на капитана, то на сарай, возле которого, действительно, какая-то баба огребала сено.
— Ну да, под тем сараем, — пояснил капитан и для пущей точности указал пальцем на сарай.
— Это у которого крыша дырявая и дверь отвалилась? На одной петле висит?
— Там один сарай, — все более раздражался сэр. — Про него мы и говорим.
— И под ним сокровище зарыто?
— Да я не знаю, — сказал Суер. — Но почему бы нет?
— Так что — копнуть, что ли?
— Ну не знаю, боцман, это — ваше дело, ваш шанс.
— Ну что ж, копну, пожалуй.
— Валяйте.
— Дайте мне лопату.
— Это кто должен вам давать лопату? Я?!?!
— О, простите, сэр! Это я вообще так, не сообразил. Где лопата?
— Какая лопата?
— Ну которой мне копать.
— Я должен вам подавать лопату?
— О, простите, сэр... я как-то растерялся... сарай... баба... Эй, кто-нибудь, принесите сюда лопату.
— А где она? — встрял килевой Кляссер, который в этот момент чистил киль. — Я ее давно ищу — кильчистить.
— А чем же ты кильчистишь, рожа? — рявкнул боцман.
— Акульей челюстью, босс.
— Эй, Вампиров! — крикнул боцман. — Где лопата?
— Какая лопата?
— Ты что, дурак? Нормальная лопата.
— Которой копают?
— Ну конечно, дубина! Давай сюда лопату!
— Да где ж я ее возьму?
— У тебя что? Нету лопаты?
— Конечно, нету. На кой мне на фрегате лопата?
— Молчать! Не ори! Дубина! Пупок! Говори: где лопату взять?
— Может, кузнец скует?
— Эй, кузнец! Где кузнец? Тащи сюда кузнеца! Слышь, кузнец, етит твою мать, где лопата? Где, говори, говорю, лопата? Что молчишь, чугун?! Котел!! Что ты там вообще делаешь? Гондон! Ендова!
— Я-я-я-я... — дрожал корабельный кузнец, вытащенный из трюма на палубу первый раз в жизни, — я-я-я-я... корякую.
— Корякаешь, пердило? Куй лопату! Скорее! Давай-давай-давай! Куй!
— Эй, мужики! — послышался вдруг голос с берега.
Баба, которая огребала сено, глядела на фрегат, отмахиваясь от слепней:
— Вы чего там, лопату, что ли, ищете?
— Ну да, лопату! — заорал боцман,
— Так здесь есть лопата.
— Где она? Где?
— Да эвон там — в сарае стоит.
Глава LXXXV. ЗАТЕЙЛИВАЯ НАДПИСЬ
— Не надо мне! — орал боцман. — Никаких матросов. Сам справлюсь! Догребу! Баба! Где лопата? В сарае?
Боцман спрыгнул в ялик и быстро дорвал весла до берега.
— Давай, баба, давай! Ну давай, говори, дура, где лопата?! Показывай!
— Да вон там...
— Показывай, — орал боцман, увлекая бабу в сарай, — тут, что ли? Ага, вот она, лопата... так-так-так... слушай, а ведь хорошая лопата попалась, а?.. Лопата, говоришь, а я-то думаю, ну где же тут лопата? А она... вот-вот-вот... так-так-так...
И больше мы боцмана не слышали, хотя и с немалым любопытством смотрели на сарай. Сарай, грубо говоря, не шевелился, но и баба из него, честно говоря, не выходила.
Прошел час, другой.
Баба, наконец, вышла из сарая и, не глянув на фрегат, сказала как бы в воздух:
{110}— Червей копат... на рыбалку, што ль, собрался?.. Ой, — зевнула она, — прям и не знаю, какая щас рыба?.. — к она продолжала огребать сено.
Прошло еще минут десять, Из сарая вышел боцман. Под мышкой он держал что-то черное, смахивающее на матросский сундучок, облепленный навозом.
— Ну ладно, Настя, покедова, — сказал он. — Завтра жди об это же время, вернусь. С лещами.
— Червей-то накопал?
— Ага, — сказал боцман. — Полный сундук.
И он погрузился в ялик, бодро дочесал до фрегата и явился на борт.
— Порядок, сэр! — доложил он. — Остров открыл, так что можно плыть дальше. Все путем!
— А что в сундучке? — спросил лоцман.
— В каком сундучке?
— А вот в этом, который вы откопали.
— А, в этом? А это ведь мое дело. Это мой личный сундучок, господин лоцман, я ведь не знаю, что вы держите в своем сундучке.
— Но на остров вы поплыли без сундучка искать сокровище, и если вы его нашли — обязаны нам показать.
— Это так, — сухо подтвердил и старпом. — Уговор был только ОТКРЫТЬ остров, а про сокровище слов не было. Сокровище надо делить на всех!
— Сэр-капитан! — вскричал боцман и обрушился на колени около сундучка. — Разве мы так договаривались?! Вы предложили МНЕ открыть остров и копнуть. Я открыл, копнул, а чего откопал — это мое дело. Правильно я думаю, сэр?
Наш капитан сэр Суер-Выер прошелся по мостику. Положение его было незавидным. Сокровищ тут явно хотелось многим и даже ему самому.
— Один мужик, — сказал он, — вышел рано утром на овсяное поле и увидел: стоит медведь и жрет овес, лапами так огребает, огребает и в рот сует. Мужик от удивления крякнул, медведь напугался и в лес убежал. И с тех пор мужик этот всем рассказывал, как медведь овес ест. Он приводил на это место всех своих сельчан и приезжих, но больше с тех пор медведя никогда в жизни не видал. Итак, боцман, сундучок — ваш, и пока я здесь капитан — никто его не отнимет. Но интересно, ЧТО в сундучке, Покажите. Я имею право глянуть, ведь я сказал, где копнуть.
— Отымут, сэр, — нервно икал боцман, — Отымут.
— Открывайте! Под мое слово!
— Слушаю, сэр! Сейчас, навоз отмою! Ковпак! Воды!
Кочегар Ковпак подал воды, сундучок окатили и сразу увидели, что вокруг замочка, верней, вокруг дырочки для ключа, вьется по золотой пластинке какая-то затейливая надпись. Что именно написано и на каком языке, было непонятно. Рядом же с надписью, уже алмазом по платине, выгравировано было что-то вроде рыбы и вроде бы кружка пивная с пеною вразлет.
Стали открывать сундучок. Совершенно естественно, он не открывался. Ключа никакого не было. Боцман ломал стамески и отвертки, требовал зубил, подцепливал крышку зубом — все без толку. Ни коловороту, ни пёрке стенки сундука не поддавались, потому что сделаны были из металла черного дерева особой закалки, осмолки, пропитки и воронения.
— Надпись надо прочесть! Надпись! В ней ключ к отмычке!
Надпись терли пемзой и морскими губками, ворсом и траурными лентами и в конце концов все-таки оттерли. Она была гравирована особой ферзью, и буковки похожи были порою не только на жучков, но и на пирожки с капустой. Звучала надпись несколько издевательски, но все-таки в ней был и некоторый смысл:
Чем пить, поедая отдельных лещей,
Купил бы ты лучше нательных вещей.
Глава LXXXVI. ЛЕЩ
Даже удивительно, до чего же обиженно надулись губы у боцмана Чугайло.
— Кто?! — заорал он, — Я купил? Нательных? Какой здесь ключ?!
— Мда-с, — сказал и Суер-Выер, — ключа в этих стишках пока не видно. А вы как думаете, старпом?
— Пить надо меньше — вот что ясно. А будешь меньше пить — больше денег сэкономишь, и не надо тебе будет никаких сокровищ. Вот что я понял, читая эту идиотскую надпись. Все! Фор-марсовые, по вантам, товьсь!
— Ну а вы, лоцман?
— Видите ли, сэр, — пожал плечами лоцман, — автор этих стишков, конеч{111}но, и автор того содержимого, что в сундучке. Там, очевидно, много денег, и он предупреждает человека, который найдет сокровище, чтоб все не пропил, а купил хоть что-нибудь из обмундирования. Сундук надо открывать, но боцману — только, скажем, две доли.
— А ты что скажешь, мой друг? — и сэр Суер-Выер глянул на меня,
— Если вы не возражаете, сэр, интересно вначале выслушать мнение юнги. У него симпатичный ум, сэр, весьма симпатичный.
— Господин Ю, просим.
— Дорогой сэр! — вскричал юнга. — Я скажу вам, что эта надпись — великолепные стихи! Мало того, я хотел бы почитать еще хоть пару строк того же автора!
— Ясно, — процедил Суер. — Юнгу выслушали, — и он снова посмотрел на меня.
Я почувствовал себя зубром, загнанным в угол, и у меня был единственный шанс — бодаться.
— Не понимаю, сэр, почему я? Есть еще и мичман, и другие члены экипажа. У всех у них очень развитый, резкий, острый, едкий, проницательный...
— Хватит, хватит, — прервал Суер. — Спросим мичмана. Нам известен его острый, резкий, практичный, пахучий, безжалостный...
— Дело темное, — сказал мичман Хренов. — Автор, видно, был рыбак и не дурак выпить. Пропил, видно, все, но в сундучке кой-что на черный день оставил. После помер, ключ потерялся. Выход один — ломать. Матросам по рублю на водку, всем по доле, капитану две, боцману — полторы.
— Больше я никого слушать не намерен, — сказал сэр Суер-Выер и требовательнейшим образом посмотрел на меня. — Говори.
— Капитан! Осталась мадам Френкель!
— Мадам занята. Исполняет свой глагол. Толкуй!
— Что значит «толкуй»?! Я не знаю, как истолковать эту надпись. Думать надо, черт подери! Принесите мне леща и нательную вещь.
Мне сразу принесли новую тельняшку, а вот копченого леща искали долго. Принесли, я говорю:
— Подлещик. А нужен именно лещ.
Принесли другого.
— Это, — говорю, — уже не подлещик, но еще и не лещ. Это — ляпок.
Наконец, принесли нормального леща, кила на полторы.
— На табличке, — поясняю экипажу, — кружка с пеной над бортом. Не пиво ли?
— Пиво! Пиво! — загомонил экипаж.
— Прошу подать кружку с пеной в полгротмачты!
Дали. Ну что ж, я надел тельняшку. Сел попросту на палубу и стал неторопливо выламывать лещевые плавники, прихлебывая из кружки.
— В чем же смысл, — думал я, — в чем сногсшибательный смысл этого простецкого стихотворения:
Чем пить, поедая отдельных лещей,
Купил бы ты лучше нательных вещей.
Глава LXXXVII. СЕРГЕЙ И НИКАНОР
Икра, хочу вам доложить, была неплохая. Икряной лещ попался, и я поначалу только с икрой и разбирался, даже горькие ее кончики, ну такие, вроде саночки детские, и те не выбросил. Ребра обсосал, а когда приступил к спинке, тут на меня стали наседать зрители.
— Говори смысл надписи, — покрикивали некоторые, вроде Ковпака.
Я прямо и не знал, что с ними делать, никак не давали леща дотаранить. Стал отводить удар.
— Вы знаете мою мечту? — спросил.
— Не знаем! — орут.
— Так вот, я мечтаю увидеть человека, который умнее меня. Понимаете?
— Да что такое, — орут. — Неуж такого нету?
— Не знаю, — говорю, — может, и есть. Мечтаю увидеть и поговорить, да все никак не встречаю... вот такая мечта...
— А Суер, — орут, — Выер?
— А если он умнее, пускай и надпись трактует.
— Тельняшка давно на мне, — ответил Суер, — а леща ел только ты, так что {112}у тебя передо мной преимущество — съеденный лещ. На весах мудрости мы равны, но лещ перевешивает. Толкуй!
— Ну что ж, друзья, — сказал я откровенно, — смысл я, признаться, понял, еще когда вы леща искали и за пивом бегали, но отказаться от леща тоже не мог. Так вот вам, смысл этого стихотворения заключается в том, что СМЫСЛА НЕТ.
— Хреновина! Это не толкование! А как же ЛЕЩ?
— Нету смысла. Как вы сами видели, я и ПИЛ, и ЛЕЩА ел, и НАТЕЛЬНУЮ ВЕЩЬ вы мне сами подарили, я имел все, несмотря на призыв поэта не пить, а покупать. А насчет сундучка вот что: во-первых, это не сундучок, а вроде ларец, такие ларьцы делали для богатых дам минувшего времени, открыть их можно было просто ноготком. У меня нету дамского ногтя, но есть рыбья кость. Попробуем, — и я взял обсосанное и сомкнутое с хребтинкой ребрышко леща и сунул в замочную скважинку. Тыркнул, тыркнул — не получилось.
— Э-э-э-э, — заэкали на меня во главе с лоцманом, — какой фрак выискался, умней него нету, косточкой, дескать.
Я помочил кость в пиве — покарябал внутри, еще помочил, еще покарябал, и вдруг послышался звук «чок» — и полилась дивная музыка Моцарта и Беллини, прекраснейшая сюэрта, написанная для валиков на колокольчиках.
Под бемоли сюэрты крышка стала приоткрываться, и из глубины волшебного сундучка поднялись две изысканных фигуры.
Одна — в богатом халате, в красной феске с тюрбаном, другая — в клетчатых брюках, полосатой шляпе. И фигуры, кланяясь друг другу, изысканно вдруг заговорили, оказывается, в сундучке был спрятан органчик. Звуки их голосов я и вынужден записать здесь в виде короткой и благонравной пьески.
— Из дальних ли морей
Иль синих гор
Любезный ты вернулся, Никанор?
— Из Турции приехал я, Сергей,
Привез ушных
Серебряных серьгей.
— Где ж серьги те?
— Да вот они в ларьце,
Который формою похож на букву «цэ».
— О, красота! Диковина! Неуж
Они послужат украшеньем уш?!
— Весьма послужат, посмотри, мой друх,
Какая красота для женских ух!
Смотри, какие на серьгах замочки,
С такою красотой, засунутою в мочки,
Они весьма нас будут соблазнять...
Тут Никанор поклонился, наклонился, нырнул куда-то в глубь сундучка и вынул серьгу.
О!
Изогнутая сдвоенным ребром василиска, выкованная из цельного куска перлоплатины, она удлиняла наш взгляд, частично выворачивая его наизнанку, потом укорачивала, а изнанку ставила ребром на подоконник. Великолепные алпаты, сапгиры и гайдары, чистейшей воды ахматы, украшали серьгу.
Матросы завороженно смотрели на это произведение искусства, слегка ослепленные блеском особо сверкающих розенталей.
— И это что? — спросил боцман. — Все?
— Не знаю, — сказал я. — Может, еще чего-нибудь достанет.
Но фигура Никанор больше ничего не доставала.
— И это все? — обиженно спрашивал Чугайло. — Одна серьга! А где же вторая?
— А вторая, — сказал капитан, — давно находится у вас в ухе, дорогой господин Чугайло.
Глава LXXXVIII. ОСТРОВ ЕДОРЕП
Чугайло запил. Туго, гнусно, занудно, простецки и матерно.
Он прекрасно понял рассказ капитана про мужика и медведя в овсе, чудо в жизни боцмана совершилось, и больше никаких чудес он мог не ожидать. Серьга и кланяющиеся фигурки — вот и все, что уготовила ему судьба, он то и дело {113}заводил их, слушал пьеску и пил, пил, пил. От бесконечного завода или от долгого пребывания в навозе фигурки стали сбиваться с проторенной поэтической дорожки, перевирали слова и один раз даже запели, обнявшись, «Отговорила роща золотая».
Матросы, не получившие с фигурок ни серьги, без боцманского тычка распустились, гнали самогонку из фальшборта, жизнь на судне пошла враскосяк.
Старпом, который жаждал сокровищ не менее других, как-то тоже опустил руки. Да и трудно было, конечно, ожидать, что под каким-то новым сараем лежит уже другой сундучок в навозе со второю серьгой специально для старпома,
Пожалуй, только лоцман Кацман пребывал в нормальном расположении духа. Нюхом чувствуя нутро муссона, он приводил «Лавра» к островам с навозными сараями, но никто не выражал желания слезть на берег и копнуть.
— Копать под сараями никто не желает, сэр, — докладывал Кацман нашему капитану. — Но вот виднеется остров, на котором сами островитяне копают. Не желаете ли глянуть?
Капитан поглядел в трубу. Перед нами распространялся в океане остров, на котором видны были согбенные его жители. Выставив зады и согнув спины, короткими саперными лопатками они копали землю.
— Возможно, это и есть остров настоящих сокровищ, сэр, — предполагал Кацман. — Они решили просто перекопать остров вдоль и поперек в его поисках.
— Давай слезем для разнообразия, — предложил мне капитан.
С трудом раскачали мы старпома, чтоб он скомандовал нам гичку, лоцмана оставили за старшого и прибыли на остров с целью, как говорится, его открытия.
Как только мы вышли на берег, я почувствовал необъяснимое головокружение, перебои в сердце и тяжесть на плечах. Дыханье мое затруднилось и, не в силах стоять, я пал на колени. Капитан немедленно опустился рядом. Так и получилось, что только лишь открыв остров, мы сразу стали на колени.
— В чем дело? — срывающимся голосом спросил меня Суер.
— А ни в чем, — ответствовал некий островитянин, проползая в этот момент мимо нас. — Вы на острове, где небо давит. Давит и мешает жить и работать.
Обливаясь липким потом, мы оглядели небо. Тяжелое, мутное, серое и живое, столбом стояло оно над островом и мерно, как пресс, раскачивалось — вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда давило так, что сердце останавливалось, иногда — немного отпускало. До самой-самой земли оно почему-то не до давливало, оставалась узкая щель, по которой и ползали островитяне.
— Здесь же невозможно жить, — сказал капитан.
— Возможно. — ответствовал некий островитянин, который почему-то от нас не отползал. — Хотя и очень, очень херово.
— А что делают ваши сограждане?
— Как чего делают? Репу копают.
— Репу?
— Ну да, репу. Картошку мы не содим, ее окучивать надо, а это без распрямления всей спины очень трудно. Так что — репу. Которые помоложе, покрепче — еще и турнепс.
— Ну, а, к примеру, морковь?
— Ч-ч-ч, — репоед приложил палец к губам. — Запрещено. Цвет не тот.
— Кто же запрещает? — спросил наивно Суер-Выер.
— Там, — сказал островитянин и посмотрел куда-то на верх той щелочки, что оставалась между небом и землей.
— Но ведь не репой единой жив человек, — сказал Суер. — В эту щель вполне пролезет домашнее животное, ну, скажем, овца, курица.
— Какая овца-курица? Черви дохнуть! — и он пополз дальше, волоча сетку, в которой бултыхалась пара треснутых репин, обросших коростой.
— Постой, — сказал я. — Хочешь, мы тебя увезем отсюда? А то подохнешь здесь. Слышь? Здесь рядышком есть пара-другая островов, где и картошку можно. Даже яблоки растут! Подбросим на корабле!
— Да как же? У меня семья, дети, — и он кивнул в сторонку, где двое ребятишек весело смеялись, кидаясь друг в друга ботвой. Им было совершенно наплевать, давит небо или нет. Они даже подскакивали и колотили в небо кулачками, как в какую-то пыльную подушку.
— Возьмем и их, — сказал я. — Так ведь, капитан?
— Весь остров, конечно, не вывезти, — отвечал Суер, — но десяток человек возьмем. Только давайте, решайте быстрее, а то я совсем плох.
— Ладно, — сказал репоед. — Сейчас с бабой поговорю, с братьями.
{114}Он отполз в средину острова, и там довольно скоро к нему наползли со всех сторон дети и братья. Они что-то там кричали, показывали на нас пальцем, один даже было вскочил, но тут же рухнул на колени.
— И картошка! И яблоки! — доносилось до нас.
Потом они так же расползлись в разные стороны, очевидно, по своим репомерным участкам.
Приполз к нам и наш едореп.
— Спасибо, — говорит, — не поедем. Отказываемся.
— А что так?
— Родину покидать не хотим. Здесь родились, здесь уж и помрем. Да и какая там она, чужая-то картошка?
— Да ведь небо задавит.
— Может, отпустит, а? — сказал он с надеждой. — И морковь разрешат? Нет, останусь. У вас табачку-то нет?
— Неужели при таком небе еще и курите? — спросил я.
— А куда денешься? — отвечал наш репортер. — И курим, и пьем, если, конечно, поднесут.
Мы оставили ему табаку, немного спирту и поползли обратно на «Лавра». За спиною слышался детский смех.
Ребятишки придумали новую игру. Они подпрыгивали и вцеплялись в небо изо всех сил и, немного покачавшись, с хохотом падали на землю.
Глава LXXXIX. ТЕПЛЫЙ ВЕЧЕРОК В НАШЕЙ УЮТНОЙ КАЮТ-КОМПАНИИ
Вечером в кают-компании офицеры попробовали все-таки пареной репы, которую мы с капитаном привезли с острова Едореп.
Она была чуть горьковата, чуть сладковата, но полезный для пищеваренья, натуральный продукт. Давящее небо на самое репу вящего влиянья, как видно, особо не оказывало. Репа осталась репой.
— Ре-па, — сказал старпом, брезгливо отодвигая поданный ему прибор.
— Не золото, — подтвердил Суер, явно обеспокоенный душевным состоянием старшего помощника, — Не понимаю, с чего Чугайло запил? У него в одной серьге столько драгоценных камней, что на них можно всего «Лавра Георгиевича» закупить.
Неосторожные слова сэра, высказанные во время поедания репы, каким-то образом доползли до боцмана, И пока мы утомленно доедали подзолистый корнеплод, боцман постучался с просьбою войти.
— Пусть, — сказал капитан, и Чугайло с огромным лицом, одетым будто в багрово-черный комбинезон, явился перед нами.
— Позвольте вас спросить, сэр. Эта серьга стоит больших денег?
— Возможно.
— А могу ли я на эти деньги купить «Лавра Георгиевича»?
— Возможно.
— Ну так вот, я покупаю. Даю за него три камушка из серьги, вот эти две берии и борух-топаз.
И боцман вынул из кармана носовой платок, в который были завернуты выковырянные из серьги камни,
— Но «Лавр» не продается,
— Как не продается? Вы сами говорили, сэр!
— Я сказал, что вы могли бы купить, но я не хозяин фрегата, я только капитан.
— А кто же хозяин? — и боцман посмотрел на меня.
Да-а-а... Все матросы, конечно, замечали, что я занимаю особое положение на борту. Плавал я вольно, без цели и без погон, но стоял на довольствии как офицер, и некоторые даже думали, что я сын хозяина, сват или брат. Но хозяина фрегата я даже лично не знал, ничего о нем не слышал и только догадывался, кто это. А меня сэр Суер-Выер принял на борт просто как старого приятеля,
— Поплаваешь, — говорил он, — Глядишь, чего-нибудь и напишешь.
Мадам Френкель я навязал ему только с одной целью, чтоб она куталась в свое одеяло. Ну, нравилось мне это. Вот и все. Остальной экипаж, в основном, набирал старпом, который в этот момент и встал из-за стола.
— Я не знаю, кто хозяин «Лавра», — медленно, закатив кадык, начал он, — но я знаю, КТО хозяин НА «ЛАВРЕ»! Здесь ХОЗЯИН — Я!!! Надо мной {115}только БОГ и КАПИТАН! Вон отсюда, скотина! — и он изо всей силы влепил боцману оплеуху своей белоснежной старпомовской перчаткой. — А если завтра не продерешь свиное рыло — вместе с бериями и серьгами — за борт! Ядро вместо якоря! В мешке или без мешка — вот единственный вопрос, который я обдумаю за ночь! И не думай, что я буду искать чугунное ядро, как ты, кнур, искал лопату!
Старпом схватил большую берию и с треском, как тарантула, раздавил ее каблуком. Боцман, ловя раскорякой оставшиеся камушки, вывалился из компании нашей кают.
— Репы старпому! — скомандовал Суер, и стюард с отвращением подал Пахомычу пареный жюльен.
Не успел старпом притронуться к потошнице, дверь снова распахнулась, и Чугайло явился с перекошенным похмельным фартуком на морде:
— Сэр-сэр-сэр! Там — остров! А на нем — баба! Золотая!
Глава XC—XCI. КНЯЗЬ И ЛИЗУШКА
По пляжу кипарисового островка прогуливалась барышня в платье стиля «кринолин», в муслимовой шляпке без вуалетки, под зонтиком и без собачки.
И шляпка, и отсутствующая собачка, и зонтик были сделаны из натуральных веществ, а вот части дамского тела блестели, как хорошо надраенное обручальное кольцо девяносто шестой пробы. Все эти ее плечи, перси, ланиты, уста и флюсы вспыхивали в тени кипарисов.
Навстречу барышне выскочил из-за фикуса милейший господин в креповом смокинге. Его голова сделана была, кажись, из чистого серебра.
Он подхватил барышню под руку, дал отсутствующей собачке пинка под зад, и они стали угощаться мороженым к фруктами, которые в изобилии оказались тут же под тентами и в беседках. Заприметив фрегат, златолюди восхищенными знаками стали приглашать нас на берег.
Капитан мигнул старпому, старпом — лоцману, лоцман — мне, и я поставил точку в этом непродолжительном миганьи. Мы мигом кинули лодку на тали и весело покатили к острову, размахивая флажками.
Капитан в кремовом кителе взлетел на песок, подбежал к барышне, чмокнул ручку. Она скинула книксен.
— Ну, где вы плавали, шалунишка? — спросила она, кокетливо хлопнув капитана веером по нашивкам. — В каких краях мочили якорек?
— Сударыня, сударыня! — заквохтал Суер-Выер. — Мы чаще мочим яблоки. А это вот наш старпом, а вот и Кацман.
— А я Лизушка, — представилась барышня, — Золотарева. А это вот князь Серебряный.
Мы почему-то стали хохотать, обниматься с князем. Пахомыч подарил Лизушке сушеный игрек, Кацман добавил икс.
— Как приятно, господа! — восклицал князь Серебряный. — Как приятно, что «Лавр Георгиевич» навестил нас! В мире нас знают, помнят, но навещают редко. И те, кто побывал раз, обратно не возвращаются.
— Почему же? — спросил капитан,
— Поймите, сэр, — пояснял князь, — мы не совсем обычные люди, мы ведь имеем злато-серебряное тело. А это очень трудно во многих смыслах.
— В каких же смыслах? — серьезно спросил старпом.
— Да вот взять хоть Лизушку Золотареву, ведь она же весит три тонны! — хохотнул князь.
— Лгунишка! — засмеялась и Лиза, хлопнув князя мизинчиком по устам. — Не три, а две с хвостиком.
— Две тонны чистого золота?! — потрясенно спросил Пахомыч.
— Да нет, — потупилась Лиза, — кое-какие детали серебряные.
— Это какие же?
— Ну, — покраснела Лизанька, — хоть вот ноготки.
Мне показалось очень и очень симпатичным, как она покраснела. Ну совершенно золотая, и вдруг — краснеет. Приятно, красиво и как-то правильно.
— У меня, конечно, куда меньше золота, — скромно заметил князь, — но есть все-таки кое-что и золотое! — и князь подмигнул Суеру-Выеру. — Вы меня поняли, капитан?! А? Ха-ха-ха! Из чистого золота! Поняли, что это? Ха-ха-ха!
— Ну конечно, понял, мой дорогой друг! — воскликнул Суер, — Конечно, понял! Это — ДУША!
И тут они с князем так стали дурачиться, что госпожа Золотарева предложи{116}ла выпить шампанского. Оказывается, ящичек шампанского «Новый Свет» зарыт был у них в песочке для специального охлаждения. Выкопали ящичек, хлопнули парой пробок.
— Это — чудо! — восклицал Суер-Выер. — Я не раз выпивал в компании золотых людей! Но — в переносном смысле! А тут пью в прямом! Виват! Прозит! Цум воль! На здоровье!
— А надо быть золотым и в прямом, и в переносном! — объяснял князь. — У нас так полагается. Уж если ты золотой в прямом — будь любезен, стань золотым и в переносном. Тогда про тебя можно, действительно, сказать — золотой человек.
— Это — огромная редкость, — задумался сэр Суер-Выер. — На материке почти не встречаются золотые как в прямом, так и в переносном. Золотых в переносном — полно, но все они нищие до мозга костей. Только чуть разбогатеют — сразу переносное золото теряют.
— Свинец! — сказал князь. — Это — свинец. У нас такие сразу превращаются в свинец или уж в ртуть. Ха-ха-ха! Мы их так и зовем — свины и рты.
— Но иметь такую вот золотую жену — это же потрясающе! — воскликнул старпом. — Это же невероятное богатство!
— Пожалуйста! — захохотал князь Серебряный. — Вот наша Лизушка — она свободна! Вперед, старпом!
— А как же вы, князь? — смутился Пахомыч. — Я думал, что госпожа Золотарева — ваша, так сказать, герлфренд или, как там, — невеста?!
— Я? — удивился князь. — Да я же известный ветреник! Легкомысленник!
— Изменщик! — добавила Лизушка. — И баламут!
— То есть как? — сказал Пахомыч и впервые за всю историю нашего плаванья открыл свои прищуренные глаза. — Я мог бы жениться на госпоже Золотаревой?
— Ну а что такого-то? — хлопал шампанским князь Серебряный. — Это со всяким может случиться! Житейский вопрос! Попробуйте! Сделайте предложение! Смелей!
Глава XCII. МИЗИНЧИК
Лоцман, Суер да и я, признаться, как-то слегка удивились, что старпом обскакал нас на повороте. Не знаю уж, о чем думали мои приятели, меня же в глубине души интересовало, какие детали у госпожи серебряные. Серебро на золоте, прямо скажу, меня всегда волновало, возбуждало и поднимало. И я даже думал немного еще выпить и приступить к делу, а тут старпом, да еще с самыми серьезными намерениями. И ходит так индюком вокруг барышни, и делает английские развороты, перуанские обиходы.
— А что вы любите на завтрак? — спрашивает. — Овсянку или яйцо?
— Молоко с пирожным!
— Ах! Ах! Парное или снятое?
— Перламутровое!
Короче, через пару минут всем стало ясно, что Лизушка Золотарева готова вступить в брак с нашим старпомом, и Пахомыч смело мог готовить брачные чертоги, о которых давно уже мечтал.
— А это не опасно? — осторожно спрашивал князя Суер-Выер. — Не задавит ли в объятьях в прямом смысле слова?
— Да нет, что вы! — успокаивал князь. — Она же золотая и в постели, все понимает. Ну, для обычного человека, может, чуть прохладна поначалу, но если этот металл разогреешь — о-го-го!
— Давайте прямо сейчас устроим помолвку! — воскликнул старпом. Он так растерялся, так заторопился, что прямо засуетился. И его, в сущности, можно было понять: и баба хорошая, видно, что добродушная, и груда золота! Черт подери! И детали серебряные потом поглядеть! И-эх! Я не то что позавидовал, но к бабам неравнодушен, особенно к золотым. Эх!
Объявили помолвку. Шампанское! Спичи! Соусы! Анахореты в сметане! Я не удержался, да и ляпнул:
— Не пойму, что это: любовь к женщине или к золоту?
— Конечно, к женщине, — твердо отрубил Пахомыч. — А то, что она — золотая, моя судьбина,
— Ну тогда другое дело, — сказал я. — А то я думаю, на кой старпому столько золота, если он не может им воспользоваться?
— Как то есть? — спросил старпом.
{117}— Но ведь вы не сможете перевести это золото в деньги, ничего не сможете на это золото купить, даже бутылку водки,
— Как то есть? — туго проворотил Пахомыч,
— Ну а так. Вы можете это золото только иметь и на него глядеть. Правильно я думаю, Лизушка?
— И ласкать, — смутилось симпатичное и доверчивое дитя.
— Как же так? — сказал старпом. — Неужели для своего любимого мужа ты не отломишь пальчик?
— Как то есть? — спросила Лиза. — Пальчик?! Отломить?! Какой пальчик?
— Да вот хоть мизинчик.
— Мой мизинчик? Зачем?
— Ну, чтоб жить по-человечески: молоко перламутровое, ананасы, костюм.
— Боже мой! — воскликнула Лиза. — Я должна отломить пальчик, чтоб ты портки себе, галоша, покупал! Ах ты, ведро оцинкованное!
И она уже размахнулась, чтоб дать старпому оплеуху, но я успел крикнуть:
— Стой, Лиза! Стой!
Думаю, что в этот момент я спас старпому жизнь, золотая плюха прикончила бы его на месте.
— Пойдем скорей со мной, Лиза, — нагло сказал я. — Иди, я буду только любоваться.
— А еще что? — спросила она капризно, вздернув губку.
— И ласкать, деточка. Конечно, еще и ласкать.
Глава XCIII. ЗОЛОТАЯ ЛЮБОВЬ
И тут такое началось! Такое!
Ну, тот, кто ласкал золотых женщин, меня поймет! Я оробел страшно, а тут еще она сорвала платье — светопреставление! Как быть??? Нет, не надо! Ладно, я поехал на Таганку! Нашатыря!
Все это, прямо скажу, происходило в каком-то замке, в который она меня утащила. Я уже потом вышел на балкон, чтоб выпить кофий, и увидел своих друзей, стоящих там вдали около шампанского.
Хорошая, скромная девушка, ничего особенного, но — золотая. И серебряные детали меня потрясли до глубины души. Дурацкая гордость, мне почему-то не хотелось показать, насколько я увлечен и потрясен ею, и небрежно так вел себя, велел налить мне водки, разрезать помидор. Разрезала, налила.
Вы думаете, это все моя фантазия? Да какая там фантазия! Правда! Чистейшая! И все эти острова! И Лиза! И Суер! И Пахомыч, который стоял там сейчас около уже остатков шампанского! Какая же это жуткая правда! Весь пергамент правда! Весь! До единого слова.
Я только сказал:
— Прикройся, неловко.
И они правда глазели снизу на все эти ее золотые и серебряные выкрутасы. И я глянул краем глаза, и снова бросил к черту кофий, рухнул на колени и потащил ее с балкона внутрь спальни. Спальни? Да! Это была спальня, черт меня подери! И опять вышли на балкон — и снова вовнутрь. И пошло — туда-сюда, туда-сюда. Кофий остыл. В конце концов я вяло валялся в полубудуаре, искренне сожалея, что я не бесконечен. Она так разогрелась, что просто обжигала плечиком, только грудь серебряная (небольшая) оставалась прохладной.
— Неужели ты и вправду хочешь МЕНЯ? — говорила Лизушка. — Другим только и нравится факт, что я — золотая.
— Ну золотая и золотая, — зевнул я. Устал, скажу вам, невероятно.
— Ты знаешь, — рассказывала Лиза, — они так хотят золота, что один дурак даже кувалдой меня по затылку ударил. Вначале все шло хорошо, а после — бах! — кувалдой по затылку.
И она засмеялась.
— Но тут такой звон раздался, что не только князь Серебряный — сам золотой телец прискакал. Он сейчас уж здоровый бык — бодает направо и налево. Смеялись три дня!.. Не понимаю только, ты-то с чего меня полюбил? За что? Неужели искренне?
— Лиза, — сказал я, — ты — золотая, а я — простой человек, дай хоть передохнуть, отдышаться.
Я прикрыл глаза и вдруг снова открыл их. Глянул на Лизушку. Боже мой! Я, действительно, кажется, попал! Невероятная баба! Ну, конечно, золотая, неоте{118}санная, лексикон, дурацкие манеры. Но все это — окружение, ил. Не может быть! Так плавать вольно всю жизнь! И вдруг полюбить — кого? Золотую женщину! Из золота! Это же конец! Саморасстрел!
— Я тебя люблю, — сказал я устало и искренне. — Просто так люблю, не за золото, — и я вдруг разрыдался отчаянно и безвозвратно.
С кошмарной ясностью я увидел, что мы несовместимы.
— Ты — редкий, редкий, редкий, — с упоением утешала меня Лиза. — Никто меня не ласкал так, как ты. Я люблю тебя. И только для тебя я ЭТО СДЕЛАЮ.
— Что еще?
— Отломлю пальчик! Мизинчик!
И она схватила свой мизинец и отвела его назад с такой золотой силой, что он, действительно, мог вот-вот отломиться.
— Стой, дура! — закричал я. — Не надо мизинца!
— Нет, нет, отломаю! Я знаю, что ты уедешь, ускачешь, уплывешь — возьми мизинец! Ты на него сто лет проживешь, а мне будет только приятно, что на МОЙ.
— Не тронь мизинец! Иди ко мне!
На некоторое время разговоры про мизинец я замял, но она снова и снова твердила:
— Отломлю, чтоб ты стал богатым. Ясно, что на острове ты не останешься.
— И ты думаешь, что я смогу продать твой мизинец?
— А что такого? — спросила Лиза. — Конечно, продашь.
В этот момент я снова сошел с ума, как давеча на острове нищих. Я кинулся на нее и стал молотить золотое и прекрасное лицо своими бедными кулаками. Я бил и бил, и только кровь лилась из моих костяшек. Потом упал у ее ног.
— Успокоился?
— Да, — равнодушно ответил я.
— Ну что? Ломать мизинец или нет?
— Что-что-что? Мизинец? Ты про это?
— Ну да, про мой мизинец золотой. Ломать или нет?
— Девяносто шестой пробы? — спросил я. — Хрен с ним, с мизинцем. Не жалко — ломай. Мне наплевать.
— Ну вот и все, — облегченно вздохнула Лизушка. — Все ясно.
— Что именно?
— Ты — такой же, как все. Можешь и кувалдой по башке. Ладно, отломлю тебе мизинчик, все-таки ты — редкость, я таких встречала двух или трех.
— Двух или трех?
— Сама не помню, — улыбнулась госпожа Золотарева.
— А мне бы хотелось точно знать, сколько вы ТАКИХ встречали! — прошептал я. — Пожалуйте мне топор!
— Какой топор?
— Вот тот! Что там в углу стоит!
Там, в углу замка, к вправду стоял красный топор на черном пне.
— Зачем тебе топор?
— Попрошу на «Вы». Подставляйте свой мизинец.
— Рубить?! Золото?
— Ну не ломать же. Она заколебалась.
— Послушай, — сказала она, — надо тебе сказать самое главное. Мы — золотые, пока живем, а как помрем — превращаемся в обычных людей. Неживых только.
— Эва, удивила, — сказал я. — Мы тоже, как помрем, в неживых превращаемся.
— Но с мизинцем ничего не получится. Это я тебя испытывала. Понимаешь? Его отрубишь — он и рассыпется в прах,
— Зато с моим получится, — ответил я, положил руку на черный пень и рубанул изо всех сил.
Глава XCIV—XCVII. КАДАСТР
Совершенно не помню, каким образом доставили меня на «Лавра», только слышал в забытьи;
— У него сильный ожог.
— Да какой там ожог — пить надо меньше!
{119}— Еще бы — столько керосинить!
Все эти диагнозы и толкования моего болезненного состояния дружно, в конце концов, сходились на том, что «пить надо меньше». И я внутренне с этим соглашался и клялся себе, что, как только приду в себя, сразу брошу пить.
Когда же я пришел в себя, я сделался неприятно удивлен следующим оригинальным обстоятельством. Дело в том, что у меня была забинтована правая нога, в то время как я точно помнил, что рубанул себя топором по левой руке. Хоть и сделал я это в состоянии аффекта, из-за безумной несовместимой любви, все-таки помнил дело точно: да, рубанул, да, по левой руке.
— В чем дело, Чугайло? — спросил я склонившегося ко мне боцмана. — Что с моей ногой?
— Точно не знаю, — говорил Чугайло, прикрываясь от меня фанеркой. — Говорят, какая-то баба покусала. От страсти.
— Тьфу! — плюнул я. — Черт бы вас всех побрал. А фанерка зачем?
— А это от посылки, — пояснил Чугайло. — Это я прикрываюсь, чтоб перегаром на вас не дышать, чтоб вам не поплохело. А то от меня перегар ромовый.
— А от водки другой, что ли?
— Ой, да что вы, господин хороший! От водки перегар ровный, так и струится, как Волга какая. А от рома, может, и помягче, но помутней.
— Да? — немного оживился я. — Неужели это так? Есть разница?
— Ну конечно же! Мы, боцмана, эту науку назубок знаем.
И боцман Чугайло с великой точностью обрисовал мне оттенки различных перегаров. По его рассказам и была в дальнейшем составлена так называемая ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПЕРЕГАРОВ как пособие для боцманов и вахтенных офицеров. Она и заняла свое место в ряду таблиц, начатом великой таблицей Дмитрия Ивановича Менделеева.
Водка — перегар ровный, течет, как Волга. Принят за эталон.
Ром — помутней, отдает гвоздикой.
Виски — дубовый перегар, отдает обсосанным янтарем.
Коньяк — будто украденную курицу жарили. И пережарили.
Джин — пахнет сукном красных штанов королевских гвардейцев.
Портвейн — как будто съели полкило овечьего помета.
Кагор — изабеллой с блюменталем.
Токайское — сушеный мухомор.
Херес — ветром дальних странствий.
Мадера — светлым потом классических гитаристов школы Сеговии.
Шампанское — как ни странно, перегар от него пахнет порохом. Дымным.
Самогон (хороший) — розой.
Самогон (плохой) — дерьмом собачьим,
— С десяти матросов, — продолжал боцман, — можно набрать баллон перегара и отвезти в раковый корпус. Рак выпить любит, а от перегара гаснет. У нас в деревне перегаром колорадских жуков на картошке окуривают.
— Как же?
— Простое дело. Заложут в картошку пару мужиков и кольями по полю перекатывают. Те матюгаются — перегар и расходится, как надо.
— А рому у тебя нету? — слабо спросил я.
— Нету. Только самогон.
— Ну тащи, хрен с ним.
— А чего его таскать, он тут рядом лежит.
— Лежит?
— Ну да, я его положил. А то старпом, как заметит, что самогон стоит — сильно ругается.
— А на лежачий что ж?
— А с лежачего чего возьмешь? Лежит и лежит. Нет, старпом не такой, чтоб на лежачего, нет...
В этот момент боцман неловко двинул фанеркой, и я отключился.
Когда же снова пришел в себя, то оказался сидящим в кают-компании и почувствовал странное ощущение. Это было ощущение, будто я произношу слово: «лавровишня».
— Лавровишня? — переспросил меня сэр Суер-Выер.
— Лавровишня, — подтвердил я.
— А Кацман говорит — фиговый листок.
— Лавровишня, —упорно твердил я.
Потом уже я узнал, что это был спор о форме острова злато-серебряных людей.
{120}И спор этот я выиграл, признали, что остров страдает формой лавровишни. Так и записали.— «страдает формой». Да вы сами почитайте. Вот окончательный
КАДАСТР
всех островов, открытых сэром Суером-Выером
и другими кавалерами во время плаванья на фрегате «ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ» с
1955 по 1995 год.
1. ОСТРОВ ШАМПИНЬОНОВ — формою похож на велосипед.
2. ОСТРОВ ВАЛЕРЬЯН БОРИСЫЧЕЙ — формы кривого карандаша.
3. ОСТРОВ СУХОЙ ГРУШИ — яйцеобразный с деревом посредине.
4. ОСТРОВ НЕПОДДЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ — напоминает Италию без Сицилии, сапогом кверху.
5. ОСТРОВ ПЕЧАЛЬНОГО ПИЛИГРИМА — определенной формы не имеет, более всего склоняясь очертаниями к скульптуре «Рабочий и колхозница».
6. ОСТРОВ ТЕПЛЫХ ЩЕНКОВ — по форме напоминает двух кабанчиков вокабул, соединенных между собой хвостами,
7. ОСТРОВ ЗАБРОШЕННЫХ МИШЕНЕЙ — в форме офицера.
8. ОСТРОВ УНИКОРН — по форме напоминает ланиты Хариты.
9. ОСТРОВ БОЛЬШОГО ВНА — золотое руно с вулканическим задом.
10. ОСТРОВ ПОНИЖЕННОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ — действительно, лежит ниже уровня Океана, формою похож на венок сонетов.
11. ОСТРОВ ГОЛЫХ ЖЕНЩИН — обширен, как вдоль, так и поперек. Во время отлива имеет форму яйца, во время прилива — двух.
12. ОСТРОВ СЛИЯНИЯ В ОДНО ЛИЦО — формы крюка, впоследствии утопленного капитаном.
13. ОСТРОВ ПОСЛАННЫХ НА ... — откровенный каменный фаллос работы федоскинских мастеров и палехской школы.
14. ОСТРОВ ЛЕШИ МЕЗИНОВА — более всего похож по форме на подмосковную станцию Кучино.
15. ОСТРОВ СЦИАПОД — чистый додекаэдр левого нажима.
16. ОСТРОВ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — формы утиного крыла в полете.
17. ОСТРОВ САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ КАМНЕЙ — напоминает, грубо говоря, умывальник, но с двумя камнями на крышке.
18. ОСТРОВ ГЕРБАРИЙ — формы серпа, раздробленного молотом.
19. ОСТРОВ, НА КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ БЫЛО — имеет форму формальных формирований.
20. ОСТРОВ ВЫСОКОЙ НРА... — в форме очков, переносицу между которыми то и дело заливает водой и высокой нра...
21. ОСТРОВ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ НА КАРТЕ — хотя мы остров так и не увидели, точно знаем, что по форме он представляет второй слог отчества нашего старпома и звучит бодро: «ХО!»
22. ОСТРОВ, НА КОТОРОМ ВСЕ ЕСТЬ — формы Вавилонской башни, обращенной вовнутрь земли, и это как бы такие погреба и подвалы, в которых и ВСЕ ЕСТЬ, кроме, конечно, боцмана Чугайлы.
23. ОСТРОВ КРАТИЙ — скала в форме оскала.
24. ОСТРОВ НИЩИХ — во-первых, изрезан фьордами, а во-вторых, нищие так его загадили, что не видно и первоначальной формы, и окончательной.
25. ОСТРОВ ОСОБЫХ ВЕСЕЛИЙ — рассудочно-пологой формы с примесью прямоугольных октанов Рудика Руби.
26. ОСТРОВ ЭНЕРГОПОЛ — форма его целиком зависит от названия, в случае перестановки слогов — ПОЛЭНЕРГО — передняя часть острова меняется с задней местами и наоборот.
27. ОСТРОВ ВЕДОМЫХ УЕМ — откровенный фаллос, но не каменный, как в пункте 13, а засаженный морковью.
28. ОСТРОВ СОКРОВИЩ БОЦМАНА ЧУГАЙЛО — в форме, кстати, института востоковедения, что вряд ли.
29. ОСТРОВ ЕДОРЕП — в форме Эйфелевой башни, которую разобрали и сложили штабелем.
30. ОСТРОВ ЗЛАТО-СЕРЕБРЯНЫХ ЛЮДЕЙ — страдает формой лавровишни.
— Ну вот и все, — сказал сэр Суер-Выер, обнимая меня. — Тридцать островов, не так уж и много, могли бы открыть еще пару.
— Жалко, что мы так и не доплыли до острова Истины, сэр.
— Как то есть? Погляди-ка вперед.
Фрегат наш, любезный сердцу «Лавр Георгиевич», приближался к некоему {121}островку. Островку? Да нет, пожалуй, это был обширный остров. Виднелись не только деревья, но даже целые города, поля, болота и вырубки.
— И вы думаете, сэр, что это остров Истины?
— Без всякого сомнения, — сказал сэр Суер-Выер.
— Но почему?
— А потому что — пора, брат! Пора! Старпом! Шлюпку!
— Будем открывать? — спросил я.
— Обязательно.
— Извините, сэр, — сказал я, — перед тем, как открыть остров, можно задать вопрос?
— Пожалуйста.
— Не пойму, почему мне забинтовали ногу?
— А... дело простое. Ты так орал, что отрубил себе руку, что пришлось хоть что-нибудь забинтовать, дабы успокоить экипаж. Итак, пожалуйте, в шлюпку.
— После вас, сэр, — сказал я.
— Нет-нет, — сказал сэр Суер-Выер. — Истина познается в одиночестве, друг мой. Иди.
И я спустился в шлюпку, разбинтовывая забинтованное не мною.
Глава XCVIII. ОСТРОВ ИСТИНЫ
Как только нос шлюпки врезался в песок — сразу и началась истина.
— Ну как там у тебя? — крикнули с фрегата. — Есть ли там истина?
— До хрена! — ответил я и бодро двинул в глубь острова.
«Пойду, не оглядываясь, — вот что я про себя решил. — Оглянусь, когда пройду весь остров и увижу океан с другой стороны.»
Я шел неторопливо, разглядывая лица девушек и деревьев, перья птиц и товарные вагоны, хозблоки и профиль Данте.
Довольно быстро я прошел весь остров и снова увидел океан с другой его стороны. «Пора оглянуться», — подумал я, но почему-то не хотелось. Заставил себя — оглянулся.
Как я и предполагал, сзади — ничего не было, океан двигался следом, замывая — какое неприятное слово — каждый мой шаг. Конечно, я об этом догадывался, и всегда слышал его шуршанье за спиной.
Сокращался остров, уменьшался. Я убивал его своими шагами. Пройти до конца оставалось совсем немного, но — очень интересно. И хозблоки там еще виднелись, и профиль Данте, лица девушек и деревьев, перья птиц и товарные вагоны, и еще мальчик и девочка...
Я это ясно увидел, и решил закончить этот пергамент. Закончим его внезапно, как внезапно кончится когда-то и наша жизнь.
В НАЧАЛЕ БЫЛО — СЛОВО, В КОНЦЕ ЕГО, КОНЕЧНО, УЖЕ НЕ БУДЕТ.
Глава XCIX. СТО ОДИННАДЦАТАЯ*
* Впрочем, кажется, автор несколько сбился со счета (прим. ред.)
Конечно, есть и другие толкования этого сложного предмета, из которых нас устроит только одно:
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И БЫЛО ОНО — БЕСКОНЕЧНО...